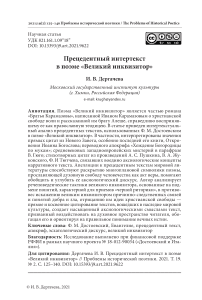Прецедентный интертекст в поэме «Великий инквизитор»
Автор: Дергачева Ирина Владимировна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.19, 2021 года.
Бесплатный доступ
Поэма «Великий инквизитор» является частью романа «Братья Карамазовы», написанной Иваном Карамазовым о христианской свободе воли и рассказанной им брату Алеше, справедливо воспринявшему ее как православную теодицею. В статье приведен интертекстуальный анализ прецедентных текстов, использованных Ф. М. Достоевским в поэме «Великий инквизитор». В частности, интерпретированы значения прямых цитат из Нового Завета, особенно последней его книги, Откровения Иоанна Богослова; переводного апокрифа «Хождение Богородицы по мукам»; средневековых западноевропейских мистерий в парафразе В. Гюго; стихотворных цитат из произведений А. С. Пушкина, В. А. Жуковского, Ф. И Тютчева, связавших воедино аксиологические концепты нарративного текста. Апелляции к прецедентным текстам мировой литературы способствуют раскрытию многоплановой символики поэмы, прославляющей духовную свободу человечества как акт веры, помогают обобщить и углубить ее аксиологический дискурс. Автор анализирует речеповеденческие тактики Великого инквизитора, основанные на подмене понятий, характерной для приемов «черной риторики», В противовес искажению Великим инквизитором причинно-следственных связей и понятий добра и зла, отрицанию им идеи христианской свободы - прямое и косвенное цитирование текстов, вошедших в наследие митровой культуры, создает насыщенный аксиологическими смыслами текст, призванный воздействовать на духовное пространство читателя, обогащая его и ориентируя на правильное понимание вечных истин.
Ф. м. достоевский, евангелие, прецедентный текст, апокриф, эсхатологический дискурс, великий инквизитор
Короткий адрес: https://sciup.org/147227246
IDR: 147227246 | УДК: 821.161.1.09“18” | DOI: 10.15393/j9.art.2021.9622
Текст научной статьи Прецедентный интертекст в поэме «Великий инквизитор»
О нтологическим ядром поэмы о «Великом инквизиторе» является фигура Христа. Образ Богочеловека становится идейным центром повествования, композиционно организованного в виде диалога, парадоксально отражающего аксиологические интенции имплицитного автора, в котором «молчание Христа мыслится как высшая ступень логоса» [Строганцева: 6]. Речи великого инквизитора развивают традиции черной риторики дьявола, искушавшего Христа в пуcтыне, а его диалог с Сыном Божиим продолжает вечный спор сил зла и добра, начало которому положило отпадение от Бога Люцифера. При этом сам великий инквизитор не демонизируется Ф. М. Достоевским, а является художественным олицетворением идеи римокатоличества, столь беспощадно и неустанно разоблачаемой писателем в художественном творчестве, публицистике и письмах.
Для иллюстрации идейного ядра поэмы, занимающей одно из ключевых мест в «христианском метаромане» [Захаров: 426], Достоевский вводит в поэму прецедентный интертекст, вызывающий аксиологические ассоциации из прежних контекстов, создавая в нем дополнительные приращения смысла. Прецедентные феномены соответствуют определению Ю. Н. Караулова как «1) значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, 2) имеющие сверхличностный характер, т. е. хорошо известные и широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и современников, и, наконец, такие, 3) обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности» [Караулов: 216]. Поэма «Великий инквизитор» включает весь спектр прецедентных текстов, перечисленных Ю. Н. Карауловым: прецедентными могут быть «цитаты, имена персонажей, названия произведений, а также их авторы, библейские тексты, виды устной народной словесности (притча, анекдот, сказка и пр.)» [Караулов: 218].
Жанр поэмы может быть определен как апокриф о Втором пришествии Христа, или, точнее, как художественная интерполяция апокрифа, источниками которого являются канонический текст последней книги Нового Завета, Откровение Иоанна Богослова, или Апокалипсис, и апокрифическое
Житие Василия Нового, в которых описывается явление Христа в славе, пришедшего «судити живым и мертвым». «Апокрифические и житийные тексты использовали достижения экзегетической традиции в обращении к Священному Писанию и Преданию, но привнесли новые краски в образность описания Страшного суда: они реализовали изобразительную потенцию эсхатологии» [Дергачева: 91]. В тексте поэмы аксиологические координаты изменены, и Христос сам подвергается моральному суду инквизитора.
-
В. Е. Багно привел подробный библиографический список трудов, в которых исследуются пушкинские традиции в творчестве Достоевского, особенно выделив «специальные работы» С. М. Бонди [Бонди], С. Г. Бочарова [Бочаров], В. А. Викторовича [Викторович], Е. А. Маймина [Маймин]. О значении пушкинского текста в художественной ткани поэмы писали В. Е. Ветловская, В. Н. Захаров, Б. Н. Тихомиров, П. Е. Фокин [Ветловская], [Евангелие Достоевского], [Захаров], [Тихомиров], [Фокин]. В. Е. Багно, вслед за пушкинистами, особое значение придавал влиянию маленькой трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери» на аксиологические воззрения Достоевского, отраженные в поэме «Великий инквизитор» [Багно: 115–118]. Его представление о влиянии философских идей драмы Пушкина «Моцарт и Сальери» на проблематику поэмы о великом инквизиторе развил А. Б. Криницын [Криницын].
Пласт пушкинских цитат в тексте поэмы о великом инквизиторе исследовала Т. А. Касаткина. Стихотворные строки из маленькой трагедии Пушкина «Каменный гость», повествующие о искушении соблазном, она связала с танатологическим дискурсом обоих произведений: «Создается ощущение, что смерть не просто неотступно следует за любовным соблазном, но и сама суть соблазна вовсе не в любви, но в смерти. <…> соблазн счастья и устроения в этой жизни и завлечение посредством этого счастья в абсолютную, безнадежную смерть, как отчасти уже было сказано, путь и великого инквизитора…» [Касаткина]. Цитата из «Отрывков из путешествия Онегина», по замечанию Т. А. Касаткиной, отсылала читателя не только к тексту великого инквизитора, но и к публицистическому тексту Достоевского «Дневник писателя» за январь 1876 г.:
«Совершенно очевидно, что текст Достоевского в “Дневнике писателя”, маркированный цитатой из “Отрывков из путешествия Онегина”, заключает в себе проблематику “Великого инквизитора”, но, так сказать, с противоположным знаком. <…> Великий инквизитор сейчас будет <…> упрекать Христа как раз за отказ от “облегчения” человеку понимания его роли и места на земле, а далее — за отказ от “облегчения” самой роли… Великий инквизитор будет ставить себе всяческое “облегчение” в заслугу. Достоевский — за отсутствие “облегчения”, за “собственное усилие”, даже за страдание…» [Касаткина].
Иван перечисляет Алеше прецедентные тексты мировой литературы, на которые он опирается в своем эсхатологическом дискурсе о спасении, — это средневековые французские, испанские и итальянские апокрифы и мистерии:
«Видишь, действие у меня происходит в шестнадцатом столетии, а тогда, — тебе, впрочем, это должно быть известно еще из классов, — тогда как раз было в обычае сводить в поэтических произведениях на землю горние силы. Я уж про Данта не говорю. Во Франции судейские клерки, а тоже и по монастырям монахи давали целые представления, в которых выводили на сцену Мадонну, ангелов, святых, Христа и самого Бога»1.
Произведения В. Гюго Достоевский имел в своей библиотеке на русском и французском языках, а прочитал он их еще в юношеском возрасте [Библиотека Ф. М. Достоевского: 6]. Аллюзия на французскую мистерию о Деве Марии взята Иваном опосредованно, через текст из романа В. Гюго «Девяносто третий год». Подобная стратегия построения нелинейного текста усиливает диахронический акцент его эсхатологического дискурса:
«В “Notre Dame de Paris” y Виктора Гюго в честь рождения французского дофина, в Париже, при Людовике XI, в зале ратуши дается назидательное и даровое представление народу под названием: “Le bon jugement de la très sainte et gracieuse Vierge Marie”, где и является она сама лично и произносит свой bon jugement» ( Д30 ; 14: 225).
В качестве источника эсхатологического дискурса поэмы о великом инквизиторе мог быть использован сборник ветхозаветных апокрифических сказаний из библиотеки писателя, в которой хранились книги Павла Прусского, старообрядца, присоединившегося к единоверию, чье имя нередко встречается в письмах и подготовительных материалах к его романам [Буданова: 87]. Речь идет о его «Беседах о Илии и Энохе», где эсхатологическая тематика, столь близкая старообрядцам, излагается священноиноком Павлом в форме православного диспута со старообрядцами [Библиотека Ф. М. Достоевского: 125], [Буданова]. Именно с чтением трудов Павла Прусского Н. Ф. Буданова связывает усиление интересов Достоевского к эсхатологической проблематике [Буданова: 98].
В качестве источника поэмы Иван указывает и на древнерусский переводной апокриф «Хождение Богородицы по мукам», столь популярный в средневековой русской культуре, что его текст в XVI в. был включен митрополитом Макарием в Великие Минеи-Четьи. Не случайно Достоевский увидел в апокрифе «картины и смелость не ниже дантовской», а В. Сахаров назвал его «самым поэтическим апокрифом о загробной жизни»2. В. Е. Ветловская приводит подробное описание публикаций редакций этого апокрифа, которые могли быть известны Достоевскому, и подчеркивает, что популярность этого эсхатологического текста имела «для Достоевского серьезное значение <…> Достоевский стремился ориентироваться не просто на христианскую сумму идей, но и на их народную адаптацию» [Ветловская: 277].
В апокрифе Богородица выступает как заступница рода человеческого, нарушая закон, но даруя благодать и помилование грешникам: полная сострадания, Она трижды молит Своего Сына о даровании им хотя бы временного покоя от невыносимых посмертных мучений:
«И вот, пораженная и плачущая Богоматерь падает перед престолом Божиим и просит всем во аде помилования <…>. Кончается тем, что Она вымаливает у Бога остановку мук на всякий год от великой пятницы до троицына дня, а грешники из ада тут же благодарят Господа и вопиют к нему: “Прав Ты, Господи, что так судил”» ( Д30 ; 14: 225).
В предисловии к изданию древнейшего списка апокрифа по рукописи XII в. из собрания РГБ (ОР РГБ. Тр.-Серг. № 12) В. В. Мильков подчеркивает, что «в памятнике отразилась очень русская черта — сострадание к падшим. Постановка этого вопроса не в бытовом, а в сакральном плане, в связи с развитием темы Божьего Суда, догматически недопустима, ибо нарушается основополагающий принцип христианской доктрины о зависимости грядущего воздаяния от финала мировой истории» [Мильков: 584].
Образ огненного озера, в котором мучаются грешники, есть и в рассказе Грушеньки о луковке, доказывающем великую пользу милости: Господь готов даровать прощение злой бабе, в качестве единственно доброго поступка подавшей нищей луковку с огорода. Ориентация на благодать объединяет эти два изображения иного мира.
Указание Ивана на время действия не случайно относится именно к XVI в.:
«Видишь, действие у меня происходит в шестнадцатом столетии <…> тогда как раз было в обычае сводить в поэтических произведениях на землю горние силы» ( Д30 ; 14: 224).
В 1492 г. христиане ожидали конец света, но апокалиптические ожидания были сильны и по истечении этого срока: «Во всем христианском мире на протяжении XV в., прошедшего для христиан в ожидании 7000 (1492) году конца света, интерес к Апокалипсису был особенно велик. <…> уже в конце XV в. некоторые западные гравированные издания бытовали на Руси и оказывали влияние в том числе и на книжную иллюстрацию» [Подковырова: 10–11].
Цитируемые Иваном строки из стихотворения Ф. Шиллера «Желание» в переводе В. А. Жуковского отражают диалектику свободы и счастья, представленную Ф. М. Достоевским в поэме, и являются своеобразным парафразом теодицеи немецкого поэта, предоставляющего человека собственной свободе [Кибальник: 46]:
«Верь тому, что сердце скажет, Нет залогов от небес» ( Д30 ; 14: 225).
Рассмотрению шиллеровских мотивов в поэме посвящена специальная работа В. А. Туниманова, противопоставившего великого инквизитора, несущего «свой крест по непоколебимому убеждению в единственной верности избранного пути», как личность страдающую, «отражение души и сомнений
Ивана Карамазова», герою Шиллера, циничному «властителю и вершителю судеб» [Туниманов: 64–65].
Помимо мотива свободы воли, данное стихотворение отражает аллюзию Шиллера на поиски рая, о котором говорится в упоминаемых Иваном мистериях:
«Озарися, дол туманный;
Расступися, мрак густой;
Где найду исход желанный?
Где воскресну я душой?
Полечу туда… напрасно!
Нет путей к сим берегам;
Предо мной поток ужасной
Грозно мчится по скалам.
Нам лишь чудо путь укажет В сей волшебный край чудес»3.
Несмотря на то, что земной рай символически отделен от земли потоком ужасным и кажется недостижимым человеку, обремененному земной оболочкой, апелляция к чуду , которое непременно приведет к воскресению, иллюстрирует эсхатологический оптимизм Достоевского.
Строки стихотворения Ф. Тютчева «Эти бедные селенья» направляют вектор эсхатологического дискурса от текстов Нового Завета в столь дорогую Достоевскому русскую землю и позволяют почувствовать близость Богочеловека, благословившего и окормляющего ее ( Д30 ; 14: 226).
Апелляция к раннехристианским временам исполнена ностальгии по чистоте веры, когда святые подвижники творили чудеса, а иные из них были удостоены созерцания явления Пресвятой Богородицы:
«Были святые, производившие чудесные исцеления; к иным праведникам, по жизнеописаниям их, сходила сама царица небесная. Но дьявол не дремлет, и в человечестве началось уже сомнение в правдивости этих чудес» ( Д30 ; 14: 225–226).
Возможно, источником данного описания являются Жизнеописания святых, находившиеся в домашней библиотеке
Прецедентный интертекст в поэме «Великий инквизитор» 133 писателя, — «Великие минеи четьи, собранные всероссийским митрополитом Макарием»4.
Образ великого инквизитора является аллюзией на собирательный образ папы Римского и отношения Достоевского к римокатолицизму, особенно полно отраженного в «Дневнике Писателя» и романе «Идиот»:
«…в этом и есть самая основная черта римского католичества, по моему мнению по крайней мере: “всё, дескать, передано тобою папе и всё, стало быть, теперь у папы, а ты хоть и не приходи теперь вовсе, не мешай до времени по крайней мере”» ( Д30 ; 14: 228).
Можно предположить, что на формирование образа великого инквизитора повлияла книга А. М. Иванцова-Платонова «О римском католицизме и его отношениях к православию», изданная в Москве в 1869–1870 гг. и имевшаяся в домашней библиотеке писателя [Библиотека Ф. М. Достоевского: 118]5. В предисловии ее автор, православный священник, определил задачу исследования как обобщение источников по истории и учению римско-католической церкви в ее отношении к православию.
Важную роль в тексте поэмы о великом инквизиторе играют цитаты из Нового Завета: «Се гряду скоро» (Откр. 22:12); «О дне же сем и часе не знает даже и сын, токмо лишь отец мой небесный» (Мф. 24:36). Описание «страшной новой ереси», «подобной светильнику», которая «пала на источники вод, и стали они горьки», отсылает нас к Апокалипсису. Цитаты из Нового Завета и особенно Откровения Иоанна Богослова, как некие «тематические ключи», по терминологии Р. Пиккио, позволяют «нам интерпретировать весь текст в свете одной общей темы, которая приводится в соответствие с истиной Писания» [Пиккио: 96]. В. В. Розанов проанализировал цитаты из Нового Завета, раскрыв глубинные смыслы поэмы: «Инквизитор с точки зрения трех искушений, как бы образно представивших будущие судьбы человека, начинает говорить об этих судьбах, анализируя смысл самих искушений. Таким образом, вскрытие смысла истории и как бы измерение нравственных сил человека делается здесь в виде обширного толкования на краткий текст Евангелия» [Розанов: 74].
-
С. Сальвестрони продолжила традицию экзегезы текста поэмы «Великий инквизитор»: «Уже сам подбор цитат, несущих логику “князя мира сего” (Ин. 14, 30), и их интерпретация показывают, на чьей стороне герой поэмы. <…> Образ “рая на земле”, созданный воображением Инквизитора, в контексте творчества Достоевского представляется значительным, благодаря именно тому, что отличается от других образов рая, порожденных мечтами Смешного человека, Версилова, Ставрогина. Это отличие заключается прежде всего в отрицании любви, идущей из глубины души и обращенной ко всему живому, а также в отрицании духовной свободы человека. Это рай, установленный сверху, построенный на лжи и поддерживаемый жестокой силой костров» [Сальвестрони: 130, 133–134].
Справедливо наблюдение исследовательницы о поисках истины Иваном: «Манипуляция Ивана с текстом Св. Писания подобна действиям сатаны, постоянно стремящегося разрушить изнутри мир Божий, без которого он не мог бы существовать» [Сальвестрони: 127].
Если учесть ее замечание о зависимости сатаны от Божьего мира, то, вероятно, и действия Ивана можно воспринять как своеобразную Теодицею, свершаемую сквозь «горнило сомнений».
Описание великим инквизитором сцен искушения Христа в пустыне возвращает читателя к Евангелию и создает некий полилог, синтезирующий аксиологическое ядро поэмы. Образ «страшной Вавилонской башни», фигурирующий у Достоевского и в виде будущего «кристального дворца» («Записки из подполья», «Подросток», «Дневник Писателя»), будет продолжен в мировой культуре (например, в философской повести А. Платонова «Котлован» и кинофильме датского режиссера Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек»).
Смысл «поэмы» Достоевский раскрыл в письмах и определил во «<Вступительном слове, сказанном на литературном утре в пользу студентов С.-Петербургского университета 30 декабря 1879 г. перед чтением главы “Великий инквизитор”>»:
«Один страдающий неверием атеист в одну из мучительных минут своих сочиняет дикую, фантастическую поэму, в которой выводит Христа в разговоре с одним из католических первосвященников — великим инквизитором. Страдание сочинителя поэмы происходит именно оттого, что он в изображении своего первосвященника с мировоззрением католическим, столь удалившимся от древнего апостольского православия, видит воистину настоящего служителя Христова. Между тем его великий инквизитор есть, в сущности, сам атеист. Смысл тот, что если исказишь Христову веру, соединив ее с целями мира сего, то разом утратится и весь смысл христианства, ум несомненно должен впасть в безверие, вместо великого Христова идеала созиждется лишь новая Вавилонская башня. Высокий взгляд христинства на человечество понижается до взгляда как бы на звериное стадо, и под видом социальной любви к человечеству является уже не замаскированное презрение к нему» ( Д30 ; 15: 198).
Для поэтики поэмы Ивана свойственно наличие множественных явных и скрытых цитаций, конструкций «текст в тексте». Они углубляют философскую проблематику поэмы, способствуя созданию прецедентного метатекста, вошедшего в большое время мировой культуры. Слова, обращенные Алешей к Ивану: «Поэма твоя есть хвала Иисуму, а не хула… как ты хотел того» ( Д30 ; 14: 237), — дают аллюзию на то, что автор поэмы вслед за Достоевским повторяет «осанну», прошедшую «через большое горнило сомнений» ( Д30 ; 27: 86), а сама поэма превращается в Теодицею, которую Иван повторяет вслед за «грешниками из ада»: «Прав Ты, Господи, что так судил» ( Д30 ; 14: 225).
Прецедентный интертекст в поэме Ивана превращает нарративную конструкцию в своеобразный художественный дискурс текстов разных эпох и культур, воздействующих на духовный мир читателя. Каждая из цитат привносит в повествование добавочный смысл и делает поэму открытым текстом с многочисленными каналами коммуникации и точками пересечения с основным повествованием [Джулиани: 103]. Инвектива великого инквизитора против Христа становится в действительности оправданием Его деяний, а сама аллегорическая поэма Ивана о христианской свободе воли призвана стать своеобразной Теодицией, обосновывающей необходимость сохранения христианской веры6.
Примечания
-
1 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1976. Т. 14. С. 224. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с использованием сокращения Д30 и указанием тома и страницы в круглых скобках.
-
2 Сахаров В. Эсхатологические сочинения и сказания в древнерусской письменности и влияние их на народные духовные стихи. Тула: Тип. Н. И. Соколова, 1879. С. 193.
-
3 Шиллер Ф. Полн. Собр. соч.: в 7 т. / под общ. ред. Н. Н. Вильмонта и Р. М. Самарина; пер. с нем. М.: Гослитиздат, 1955. Т. 1: Стихотворения. Драмы в прозе. С. 322–323.
-
4 Описание источника по изданию «Библиотека Ф. М. Достоевского…»: Великие минеи четьи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. СПб., 1868–1874. (На обл.: Памятники славяно-русской письменности, изданные Археографической комиссией).
[Вып. 1]. Сентябрь. Дни 1–13. 1868. [6], VI с.; 672 стб., 3 л. факс.
[Вып. 2]. Сентябрь. Дни 14–24. 1869. [4], IV с.; 673–1392 стб.
[Вып. 4]. Октябрь. Дни 1–3. 1870. [2], VIII с.; 792 стб., 1 л. факс.
[Вып. 5]. Октябрь. Дни 4–18. 1874. [4], IV с.; 793–1534 стб.; 3 с.
В Записной тетради Д. 1872–1875 гг. под рубрикой “Книги необходимые” записано «“Великие Минеи Четьи”, Макария (в Москве) у С. Т. Большакова в Малом Охотном ряду (пять выпусков)» [Библиотека Ф. М. Достоевского: 257].
-
5 Иванцов-Платонов А. М., протоиерей. О римском католицизме и его отношениях к Православию. Очерк истории, вероучения, богослужения, внутреннего устройства римско-католической Церкви, и ее отношений к православному Востоку. Ч. 1–2. М.: Об-во распространения полезных книг, 1869–1870 [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka . ru/otechnik/Aleksandr_Ivancov_Platonov/o-rimskom-katolitsizme-i-ego-otnoshenijah-k-pravoslaviyu/ (01.11.2020).
-
6 Иустин (Попович), преподобный. Философия и религия Ф. М. Достоевского. Минск: Издатель Д. В. Харченко, 2007. 312 с. Вторая часть книги посвящена православной теодицее и описанию «православного подвига Ф. М. Достоевского».
Список литературы Прецедентный интертекст в поэме «Великий инквизитор»
- Багно В. Е. К источникам поэмы «Великий инквизитор» // Достоевский. Материалы и исследования. Л.: Наука, 1985. Т. 6. С. 107—119.
- Библиотека Ф. М. Достоевского: опыт реконструкции. Научное описание. СПб.: Наука, 2005. 338 с.
- Бонди С. М. «Моцарт и Сальери» // Бонди С. М. О Пушкине: статьи и исследования. М.: Худож. лит., 1978. С. 242—309.
- Бочаров С. Г. О двух пушкинских реминисценциях в «Братьях Карамазовых» // Достоевский. Материалы и исследования. Л.: Наука, 1976. Т. 2. С. 145—153.
- Буданова Н. Ф. Павел Прусский и его книга «Беседы о пришествии пророков Илии и Эноха, об антихристе и седминах Даниловых» (Новые материалы к теме «Достоевский и старообрядчество») // Достоевский. Материалы и исследования. СПб.: Наука, 2007. Т. 18. С. 86—101.
- Ветловская В. Е. Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». СПб.: Пушкинский Дом, 2007. 639 с.
- Викторович В. А. О поэтике сюжетного эксперимента: Пушкин и Достоевский // Болдинские чтения. Горький, 1981. С. 166—177.
- Дергачева И. В. Посмертная судьба и «иной мир» в древнерусской книжности. М.: Кругъ, 2004. 351 с.
- Джулиани Р. «Великий инквизитор»: текст и контекст // Достоевский. Материалы и исследования. СПб.: Нестор-История, 2019. Т. 22. С. 103—119.
- Евангелие Достоевского: в 2 т. / подгот., статьи и коммент. В. Н. Захарова, Б. Н. Тихомирова. М.: Русскiй Мiръ, 2010.
- Захаров В. Н. Имя автора — Достоевский. Очерк творчества. М.: Индрик, 2013. 456 с.
- Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987. 264 с.
- Касаткина Т. А. Пушкинские цитаты как введение в проблематику «Великого инквизитора». О «Великом инквизиторе». Ч. 1 // Журнал Татьяны Касаткиной [Электронный ресурс]. URL: https://t-kasatkina.livejournal.com/83436.html (06.05.2020).
- Кибальник С. А. Диалектика свободы и счастья в «Легенде о Великом инквизиторе» // Cuadernos de Rusística Española. 2013. No. 9. Pp. 45—57.
- Криницын А. Б. «Моцарт и Сальери» А. С. Пушкина как источник поэмы о великом инквизиторе в романе «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского // Вестник Череповецкого государственного университета. Филологические науки. Череповец, 2016. № 3. С. 43—47.
- Маймин Е. А. Полифонический роман Достоевского и пушкинские традиции // Культурное наследие Древней Руси. Истоки. Становление. Традиции. М.: Наука, 1976. C. 312—315.
- Мильков В.В. Древнерусские апокрифы. СПб.: Издательство РХГИ, 1999. 896 с.
- Пиккио Р. История древнерусской литературы / пер. с итал. М.: Кругъ, 2002. 352 с.
- Подковырова В. Г. Лицевые Апокалипсисы второй половины XVII—начала XX веков. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2016. 668 с. (Описание рукописного отдела Библиотеки РАН; т. 10, вып. 2).
- Розанов В. В. Собр. соч. М.: Республика, 1996. Т. 7. Легенда о великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Лит. очерки. О писательстве и писателях. 702 с.
- Сальвестрони С. Библейские и святоотеческие источники романов Достоевского / пер. с итал. СПб.: Акад. проект, 2001. 186 с.
- Строганцева Н. В. Поэма «Великий инквизитор»: семантическая модель и контур интерпретационного поля: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Краснодар, 2003. 22 с.
- Тихомиров Б. Н. Религиозные аспекты творчества Ф. М. Достоевского. Проблемы интерпретации, комментирования, текстологии: дис. ... д-ра филол. наук. СПб., 2006. 567 с.
- Туниманов В. А. О литературном и историческом «прототипах» Великого Инквизитора // Туниманов В. А. Лабиринт сцеплений: избранные статьи. СПб.: Пушкинский дом, 2013. С. 61—71.
- Фокин П. Е. Поэма Ивана Карамазова «Великий Инквизитор» в идейной структуре романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» // Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»: современное состояние изучения. М.: Наука, 2007. С. 115—136.