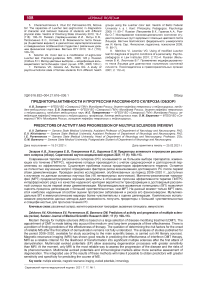Предикторы активности и прогрессии рассеянного склероза (обзор)
Автор: Захаров А.В., Хивинцева Е.В., Повереннова И.Е., Баранова О.М.
Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj
Рубрика: Нервные болезни
Статья в выпуске: 1 т.17, 2021 года.
Бесплатный доступ
Современная терапия рассеянного склероза (PC) основывается на большом выборе препаратов, изменяющих его течение (ПИТРС), назначение которых производится с учетом среднесрочной и долгосрочной перспективы их эффективности. Существует проблема поиска предикторов эффективности терапии. Остается не полностью изученным вопрос определения факторов риска возникновения достоверного PC после первой атаки демиелинизации. Проведен анализ исследований, опубликованных за период 2006-2020 гг., доступных к изучению по данным основных научных баз (46 литературных источников). Магнитно-резонансная томография (МРТ) продемонстрировала хорошие результаты в отношении прогноза эффективности терапии ПИТРС интерферонового ряда и в качестве надежного критерия вероятности трансформации в достоверный рассеянный склероз после первой атаки демиелинизации. Мультимодальные вызванные потенциалы (ВП) позволяют оценить процессы дегенерации с большей чувствительностью, чем МРТ. На данный момент только МРТ является наиболее надежным способом оценки прогрессии заболевания и рисков его феноконверсии. Мультимо-дальные ВП и иммунологические маркеры более чувствительны к оценке дегенерации. Комплексное использование результатов данных методов дает возможность получить предикторы с большей чувствительностью и специфичностью для прогноза течения PC.
Рассеянный склероз, магнитно-резонансная томография, иммунология, вызванные потенциалы
Короткий адрес: https://sciup.org/149134991
IDR: 149134991 | УДК: 616.832–004.21:616–036.1
Текст научной статьи Предикторы активности и прогрессии рассеянного склероза (обзор)
Значимость и востребованность нейрофизиологических методов, а именно мультимодальных вызванных потенциалов (ВП), представляются переоцененными в диагностике процесса демиелинизации по причине их низкой чувствительности по сравнению с МРТ. Однако мультимодальные ВП показали свою эффективность в качестве объективного метода оценки процесса нейродегенерации, играющей большую роль в формировании неврологической симптоматики при РС, особенно при прогредиентных формах течения заболевания. Определенный импульс получил поиск иммунологических маркеров прогрессии заболевания и предикторов эффективности терапии ПИТРС в различной временной перспективе.
В задачи обзора входило изучение обнаруженных на текущий момент предикторов, обладающих высокой чувствительностью в отношении активности и прогрессии РС, а также освещение возможностей по изучению перспектив их поиска в дальнейшем.
Проведен анализ доступных для изучения статей, опубликованных с 2006 по 2020 г. в основных научных базах: MEDLINE (Ovid), Amed, EMBASE, CINAHL и PsycInfo. Большинство данных, включенных в обзор, являются результатом мультицентровых международных исследований по оценке эффективности и безопасности ПИТРС. Разнообразность клинических групп, применяющих терапию ПИТРС, не позволяет провести метаанализ. По этой же причине нет данных о влиянии на течение, риски феноконверсии либо среднесрочной или долгосрочной перспективы ПИТРС.
Нейровизуализационные методы в качестве предикторов активности и прогрессии РС. Судя по большому объему накопленных данных, МРТ продемонстрировала высокую чувствительность в качестве объективного метода диагностики РС после первой атаки демиелинизации, т. е. при клинически изолированном синдроме (КИС). Это сыграло роль для официального включения МРТ в диагности-
ческие критерии РС. Проведенное исследование MAGNIMS продемонстрировало, что количество гипертензивных T2-очагов является надежным предиктором перехода КИС в клинически достоверный РС (КДРС), а также обнаружило корреляцию с выраженностью инвалидизации у пациентов в дальнейшем. Количество Т2-очагов является важным критерием постановки диагноза РС после первой атаки заболевания или КИС [1]. Согласно критериям MAGNIMS 2016 г., наличие трех перивентрикулярных очагов является фактором риска трансформации КИС в клинически достоверный рассеянный склероз (КДРС) [2]. В качестве дополнительных изменений на МРТ, характерных для высокого риска трансформации в КДРС, выступают наличие очага демиелинизации в спинном мозге [3], а также поражение серого вещества [4]. Наличие неактивных T1-очагов не коррелирует с высоким риском второй клинической атаки при КИС [5].
Наличие атрофии серого вещества, особенно коры головного мозга, и расширение желудочковой системы продемонстрировали высокую степень корреляции с выраженностью инвалидизации и ее прогрессированием в течение последующих четырех лет после первой атаки демиелинизации. После трансформации КИС в КДРС значительно ускорялись следующие изменения: появление новых или увеличение существующих T2-очагов, снижение объема серого и белого вещества, увеличение объема боковых желудочков мозга [6].
МРТ демонстрирует значительную вовлеченность в патологический процесс серого вещества, что тесно коррелирует с выраженностью неврологического дефицита, а также прогрессированием его в последующем. Обнаруживаемое с помощью МРТ очаговое повреждение серого вещества позволяет сделать заключение, что при РС часть симптомов обусловлена именно поражением серого вещества. Например, атрофия гиппокампа формирует дефицит памяти [7], снижение концентрации гамма-аминомасляной кислоты в сенсомоторной области коррелирует с двигательными нарушениями [8], поражение серого вещества и очаги в спинном мозге коррелируют с выраженностью инвалидизации [9].
В отдельных многоцелевых исследованиях продемонстрировано, что выраженность инвалидизации больше связана с атрофией спинного мозга и наличием T2-очагов в головном мозге, и меньше с атрофией серого вещества головного мозга [10]. В настоящий момент для оценки субпиальной демиелинизации (кортикальной демиелинизации) используется коэффициент передачи намагниченности, демонстрируя вовлеченность данных структур в патологический процесс [11]. МРТ-методика с определением коэффициента переноса намагниченности, а также количество очагов Т1 и Т2 позволяют использовать их в качестве предиктора прогредиентности течения и увеличения выраженности неврологического дефицита в последующем. Несколько многопараметрических исследований последовательно подтвердили идею совместного вклада повреждениям и белого, и серого вещества в определении клинической картины заболевания, в том числе когнитивных нарушений. В качестве одного из факторов, являющихся причиной когнитивных нарушений, выделяют нарушение таламокортикальных связей [12] или множественность поражения белого вещества [13].
-
У пациентов с КИС МРТ не смогла выявить значимого предиктора, коррелирующего с ответом на ле-
- чение [14]. Значительно повышается прогностическая значимость МРТ-предикторов при совместном использовании с клиническими данными. При рецидивирующем и рецидивирующе-ремитирующем РС (РРРС) более высокие эффекты лечения связаны с более высокой активностью накапливающих контраст Т2-очагов, молодым возрастом и низким уровнем инвалидизации пациентов. Данный вывод сделан на основе проведенного метаанализа шести исследований, где в качестве ПИТРС выступали на-тализумаб и диметилфумарат, терифлуномид и фин-галимод [15].
Исследование MAGNIMS, включавшее пациентов с РРРС, получавших лечение интерфероном-бета, и длительностью наблюдения в течение двух лет, продемонстрировало, что риск прогрессирования инвалидизации более высок у пациентов с одним рецидивом и с наличием не менее трех Т2-очагов. Прогрессирование инвалидизации за 3 года возрастало на 17% у пациентов без рецидивов и появлением менее трех новых Т2-очагов, и на 48% для пациентов с рецидивом и появлением более трех Т2-очагов. Метаанализ, направленный на поиск предикторов эффективности терапии, не позволил обнаружить значимых МРТ-маркеров, пригодных для прогноза эффективности терапии ПИТРС [16].
Использование нейрофизиологических методов в оценке течения РС. Область применения мультимодальных ВП, к которым в клинической практике относятся зрительные, слуховые, соматосенсорные и моторные вызванные ответы, обычно ограничивается обнаружением изменений в структурах, труднодоступных для МРТ-оценки. Кроме того, вызванные потенциалы широко используются для обнаружения скрытых поражений при РС. Хотя прогностическая ценность ВП у пациентов с РС продемонстрирована в нескольких исследованиях, МРТ в значительной степени заменила их использование. К ним в первую очередь относятся зрительный нерв и спинной мозг. Многочисленные исследования показали высокую корреляцию мультимодальных ВП с выраженностью инвалидизации при РРРС, что позволяет использовать их для среднесрочной и долгосрочной оценки прогрессирования инвалидизации [17]. Однако рутинное использование мультимодальных ВП имеет определенные трудности по причине их выраженной изменчивости при количественной оценке получаемых данных, т. е. оценки абсолютных значений латентностей и амплитуд основных пиков. Альтернативой количественному анализу являются полуколичественные и качественные методики оценки, что позволяет нивелировать индивидуальные особенности мультимодальных вызванных потенциалов и таким образом значительно увеличить их специфичность. Считается, что чем длиннее оцениваемый тракт при проведении ВП, тем более чувствительной является методика в выявлении демиелинизации. Таким образом, наиболее чувствительными являются зрительные и соматосенсорные вызванные потенциалы. Хорошей воспроизводимостью обладают зрительные ВП, что доказано в нескольких центровых и многоцентровых исследованиях [18].
Продемонстрировано, что использование зрительных ВП позволяет получить прогностическую информацию не только на ранних стадиях РС для среднесрочного и долгосрочного прогноза инвалидизации, но и для определения прогнозов при прогредиентных формах течения заболевания [19]. ВП хорошо коррелируют со степенью инвалидизации, даже если используются в качестве изолированной методики обследования. ВП продемонстрировали свою информативность в качестве предиктора восстановления двигательной функции у пациентов после выраженного обострения РС [20]. Следует отметить когнитивные вызванные потенциалы, которые являются одним из объективных инструментальных методов оценки когнитивных функций, а также синдрома утомляемости у пациентов с РС [21].
Вызванные потенциалы хорошо коррелируют со степенью клинического вовлечения оцениваемой функциональной системы [22]. При исследовании пациентов с прогрессирующими типами течения РС ВП коррелируют и предсказывают прогрессирование инвалидности, оцениваемой с помощью расширенной шкалы оценки степени инвалидизации (англ. Expanded Disability Status Scale, EDSS). Основываясь на опубликованных исследованиях с использованием этой методологии, можно сделать несколько выводов: существует сильная взаимосвязь между исходными отклонениями от нормы по данным ВП и степенью инвалидизации в будущем, измеряемой с помощью EDSS; прогностическая сила ВП более высока на ранних этапах рецидивирующе-ремитиру-ющего РС и у пациентов с первично-прогредиентным типом течения РС по сравнению с КИС; определяется хорошая корреляция между каждой модальностью ВП и клиническими изменениями в соответствующей функциональной системе (согласно шкале EDSS), за исключением слуховых вызванных потенциалов и стволовых нарушений [23]. Однако поражение ствола мозга является основным независимым предиктором будущей инвалидности у людей КИС, и слуховые ВП в данной ситуации являются основным методом оценки [24]. Высокая чувствительность обнаружена у альтернативных ВП, позволяющих оценивать функцию ствола головного мозга, используя альтернативные методы стимуляции, например вестибулярный вызванный миогенный потенциал (англ. Vestibular Evoked Myogenic Potentials, VEMP). Из-за высокой чувствительности VEMP особенно подходит для использования в качестве средства мониторинга прогрессирования заболевания [25]. Соматосенсорные вызванные потенциалы демонстрируют корреляцию с подтвержденными по МРТ поражениями среднего мозга у пациентов с КИС [26]. При этом следует отметить, что реализованных прогностических моделей на основании комплексного использования ВП в изученной литературе не встречается, большинство исследований подробно освещают роль только одной модальности ВП в оценке течения и прогрессирования РС.
Иммунологические предикторы активности и прогрессии РС. На современном этапе большое внимание уделяется поиску иммунологических маркеров течения РС, рисков феноконверсии в КДРС после первой атаки демиелинизации и ответа на терапию ПИТРС. Акцент делается на легких (англ. Neurofilament Light chain, NfL) и тяжелых цепях (англ. Neurofilament Heavy chain, NfH) нейрофиламентов [27], хитиназа-3-подобном белке (англ. chitinase-3-like protein 1, CHI3L1), ферменте хитотриозидазе-1 (англ. chitotriosidase-1, CHIT1). К числу перспективных биомаркеров относят нейтрализующие антитела к ПИТРС, а именно: остеопонтин [28], лиганды к хе-мокинам [29].
Уровни нейрофиламентов в спинномозговой жидкости отражают степень повреждения аксонов, основанную на их высвобождении во внеклеточное про- странство во время повреждения. Считается, что NfL отражают раннее острое воспалительное поражение аксонов, сильно коррелируя со степенью активности процесса демиелинизации и хуже с прогрессированием инвалидизации. Напротив, уровни NfH лучше коррелируют с прогрессированием заболевания и считаются отражением активности нейродегенера-тивного повреждения аксонов [30]. Демонстрируется высокая значимость уровней нейрофиламентов при первых атаках демиелинизации для определения последующего риска феноконверсии в КДРС и установления типа течения заболевания.
У пациентов с радиологическим изолированным синдромом (РИС) и КИС обнаружено сходство по уровню NfL. У пациентов с РИС уровень NfL в ликворе был связан с повышенным риском перехода в КИС (отношение риска (англ.) Hazardratio, HR=1,02 при увеличении на каждые 50 нг/л) и клинически достоверный РС (HR=1,03 при увеличении на каждые 50 нг/л). Уровень NfL в ликворе более 619 нг/л ассоциировался с ускорением феноконверсии в КИС (p=0,079) [31]. Подтверждением возникновения нейроаксонального повреждения является увеличение в сыворотке NfL в период между доклинической и клинической фазами заболевания и связано с 12-кратным увеличением риска развития РС [32]. У пациентов с КИС высокий уровень NfL в спинномозговой жидкости был независимым прогностическим маркером более раннего перехода КИС к КДРС. Результаты исследований показывают, что повышенный NfL после первой атаки демиелинизации (превышая значения 1150-1770 нг/л) может прогнозировать скорую феноконверсию в КДРС [33]. Повышенное количество NfL в спинномозговой жидкости коррелирует не только с воспалительными исходами (активными очагами по данным МРТ), переходом от КИС к РРРС, но и предсказывает долгосрочные исходы в инвалидность [34].
В исследовании пациентов с КДРС высокий показатель в ликворе NfL коррелировал с более быстрым прогрессированием балла EDSS в течение следующих десяти лет, со средним увеличения EDSS за 5 лет на 0,5 балла на каждые 1000 нг/л NfL от их исходного уровня [35]. Продемонстрировано также, что уровень NfL в ликворе является независимым фактором риска феноконверсии во вторично прогредиентный тип течения РС (ВПРС): пациенты с РРРС с изначально высоким уровнем NfL в ликворе (>386 нг/л) имели значительно более высокий риск трансформации во вторично-прогрессирующий РС (ВПРС) и более высокий балл по EDSS через 14 лет от начала заболевания [34].
Недавнее исследование показало, что исходные уровни сывороточного NfL не могут служить для прогноза вероятности активного течения заболевания (согласно критериям NEDA — англ. No Evidence of Disease Activity) в среднесрочной перспективе последующих четырех лет, однако его более низкие показатели ассоциируются с более высокой вероятностью достижения критериев NEDA в долгосрочной перспективе. При базовых значениях 14,2 нг/л сывороточного NfL чувствительность для определения рисков возникновения активности РС составила 76% в течение 1 года, 74% в течение 2 лет и 72% в течение 4 лет со специфичностью 50, 50 и 57% соответственно [36].
Пациенты с РРРС с исходно высоким уровнем NfH в спинномозговой жидкости демонстрировали более выраженное прогрессирование по EDSS с те- чением времени по сравнению с пациентами с нормальным уровнем NfH [37]. Степень атрофии мозга по данным МРТ продемонстрировала значительную связь с повышением уровня NfH [38].
Ретроспективный анализ подгруппы пациентов в исследовании 3-й фазы финголимода (FREEDOMS) показал снижение уровня NfL в спинномозговой жидкости после 12 месяцев лечения [39], что демонстрирует перспективы использования NfL в качестве количественного биомаркера аксонального повреждения при РС.
Среди хитиназ наиболее изучен белок CHI3L1. Предполагается, что CHI3L1 играет роль в хроническом воспалении и ремоделировании тканей [40]. Подтверждение роли CHI3L1 как прогностического маркера в наступлении КДРС основывается на исследованиях, демонстрирующих повышение концентрации CHI3L1 (более 100-189 нг/мл) в ликворе у пациентов с КИС с феноконверсией в КДРС [41]. Повышенный уровень CHI3L1 коррелировал с быстрой конверсией КИС в КДРС, быстрым прогрессированием инвалидизации и более высокой вероятностью когнитивных нарушений в последующем [41]. Еще одним важным результатом недавних исследований является то, что ПИТРС, такие как натализу-маб и финголимод, снижают уровни CHI3L1 [42].
Неоднозначными являются результаты исследований, демонстрирующих различия в уровнях CHI3L1 между пациентами с РРРС и ВПРС или между пациентами во время рецидива и во время ремиссии РС [43]. Обнаружена корреляция между повышенным уровнем CHI3L1 в спинномозговой жидкости и количеством очагов, накапливающих гадолиний в T1-и T2-режимах, атрофией головного мозга, отражая связь CHI3L1 с воспалением, а не с нейродегенерацией [43].
Прогностическая значимость CHIT1 на данный момент активно изучается. Повышение уровня CHIT1 коррелирует с клиническими переменными, такими как EDSS [44]. В некоторых исследованиях выявлены существенные различия, позволяющие проводить дифференцировку между прогрессирующими и рецидивирующе-ремитирующими формами, а также между пациентами с РС и контрольной группой, предполагая, что сывороточный CHIT1 можно использовать в качестве маркера [45]. Отмечено, что пациенты, не ответившие на лечение интерфе-ронами-бета, имели более низкие уровни CHIT1 в сыворотке крови до начала лечения, хотя значимых различий между группами после лечения не было [46]. В целом в настоящее время противоречивые результаты исследований затрудняют использование CHIT1 в качестве биомаркера РС.
Заключение. Сегодня в арсенале врача при решении диагностических и терапевтических вопросов имеется достаточно большой спектр инструментальных и лабораторных методик, помогающих в принятии решений. МРТ и ВП традиционно более изучены по причине рутинности их использования у пациентов с демиелинизирующими заболеваниями и большой длительностью клинического применения. МРТ выступает на первый план по причине надежности. Однако ВП имеют преимущество в оценке выраженности процесса дегенерации и демиелинизации на ранних стадиях демиелинизации, а также в качестве объективного метода регресса симптоматики после обострения при РРРС. Использование новых видов стимулов для получения новых ВП направлено на увеличение чувствительности при выявлении демиелинизации и дегенерации на различных стадиях заболевания при разных типах течения РС.
Использование биомаркеров на ранней стадии заболевания может значительно повлиять на выбор терапии, выявляя пациентов с высоким риском развития прогрессирующей инвалидизации. Потенциал нейрофиламентов можно использовать в клинических исследованиях в качестве маркеров при прогрессирующем РС. Использование биомаркеров относится к новым перспективным направлениям, так как отражает процессы нейродегенерации и воспаления, ведущие к прогрессии заболевания, однако данные методы не имеют широкого применения в рутинной медицинской практике. В настоящее время не сформированы базы данных нормативных значений биомаркеров для получения референсных значений, являющихся необходимым условием для использования их в качестве стандартного биомаркера в клинической практике. Продолжается активный поиск новых биомаркеров, имеющих высокую чувствительность и специфичность в отношении рисков феноконверсии и эффективности того или иного ПИТРС.
Можно сделать заключение о выявлении достаточно многочисленных инструментальных и лабораторных предикторов, которые могут быть использованы в качестве критерия в оценке рисков феноконверсии демиелинизации, прогрессирования инвалидизации. Продолжается поиск факторов, отвечающих за прогнозирование эффективности ПИТРС. Очевидно, что для столь сложного, многокомпонентного патологического процесса, к которому относится РС, характерна множественная зависимость от выявляемых предикторов. Следовательно, их комплексный анализ по мере накопления данных в будущем позволит решить существующую на данный момент задачу персонифицированного подхода к назначению ПИТРС.
Список литературы Предикторы активности и прогрессии рассеянного склероза (обзор)
- Kuhle J, Disanto G, Dobson R, et al. Conversion from clinically isolated syndrome to multiple sclerosis: a large multicentre study. Mult Scler2015; 8: 1013-24.
- Ruet A, Arrambide G, Brochet B, et al. Early predictors of multiple sclerosis after a typical clinically isolated syndrome. Mult Scler2014;20: 1721-6.
- Sombekke MH, Wattjes MP, Balk LJ, et al. Spinal cord lesions in patients with clinically isolated syndrome: a powerful tool in diagnosis and prognosis. Neurology 2013; 80: 69-75.
- Filippi M, Rocca MA, Calabrese M, et al. Intracortical lesions: relevance for new MRI diagnostic criteria for multiple sclerosis. Neurology 2010; 75: 1988-94.
- Mitjana R, Tintore M, Rocca MA, et al. Diagnostic value of brain chronic black holes on T1-weighted MR images in clinically isolated syndromes. Mult Scler2014; 20: 1471-7.
- Uher T, Horakova D, Bergsland N, et al. MRI correlates of disability progression in patients with CIS over 48 months. Neuroimage Clin 2014; 6: 312-9.
- Longoni G, Rocca MA, Pagani E, et al. Deficits in memory and visuospatial learning correlate with regional hippocampal atrophy in MS. Brain Struct Funct 2015; 220: 435-44.
- Cawley N, Solanky BS, Muhlert N, et al. Reduced gamma-aminobutyric acid concentration is associated with physical disability in progressive multiple sclerosis. Brain 2015; 138:2584-95.
- Kearney H, Schneider T, Yiannakas MC, et al. Spinal cord grey matter abnormalities are associated with secondary progression and physical disability in multiple sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2015; 86: 608-14.
- Kearney H, Rocca MA, Valsasina P, et al. Magnetic resonance imaging correlates of physical disability in relapse onset multiple sclerosis of long disease duration. Mult Scler 2014;20:72-80.
- Samson RS, Cardoso MJ, Muhlert N, etal. Investigation of outer cortical magnetisation transfer ratio abnormalities in multiple sclerosis clinical subgroups. Mult Scler 2014; 20: 1322-30.
- Bisecco A, Rocca MA, Pagani E, et al. Connectivity-based parcellation of the thalamus in multiple sclerosis and its implications for cognitive impairment: a multicenter study. Hum Brain Mapp 2015; 36: 2809-25.
- Daams M, Steenwijk MD, Schoonheim MM, et al. Multi-parametric structural magnetic resonance imaging in relation to cognitive dysfunction in long-standing multiple sclerosis. Mult Scler J 2016; 22 (5): 608-19.
- Comi G, Martinelli V, Rodegher M, et al. Effect of glatiramer acetate on conversion to clinically definite multiple sclerosis in patients with clinically isolated syndrome (PreCISe study): a randomised, double-blind, placebocontrolled trial. Lancet 2009; 374: 1503-11.
- SignoriA, Schiavetti I, Gallo F, Sormani MP. Subgroups of multiple sclerosis patients with larger treatment benefits: a meta-analysis of randomized trials. Eur J Neurol 2015; 22: 960-6.
- Dobson R, Rudick RA, Turner B, et al. Assessing treatment response to interferon-G: Is there a role for MRI? Neurology 2014; 82: 248-54.
- Kallmann BA, Fackelmann S, Toyka KV, et al. Early abnormalities of evoked potentials and future disability in patients with multiple sclerosis. Mult Scler 2006; 12: 58-65.
- Narayanan D, Cheng H, Tang RA, Frishman LJ. Reproducibility of multifocal visual evoked potential and traditional visual evoked potential in normal and multiple sclerosis eyes. Doc Ophthalmol 2015; 130: 31 -41.
- Schlaeger R, D'Souza M, Schindler C, et al. Electrophysiological markers and predictors of the disease course in primary progressive multiple sclerosis. Mult Scler 2014; 20:51-6.
- Mori F, Kusayanagi H, Nicoletti CG, et al. Cortical plasticity predicts recovery from relapse in multiple sclerosis. Mult Scler 2014; 20: 451-7.
- Nagels G, D'hooghe MB, Vleugels L, et al. P300 and treatment effect of modafinil on fatigue in multiple sclerosis. J Clin Neurosci 2007; 14: 33-40.
- Hardmeier M, Leocani L, Fuhr P. A new role for evoked potentials in MS? Repurposing evoked potentials as biomarkers for clinical trials in MS. Mult Scler 2017; 23: 1309-19.
- Pelayo R, Montalban X, Minoves T, et al. Do multimodal evoked potentials add information to MRI in clinically isolated syndromes? Mult Scler 2010; 16: 55-61.
- Tintore M, Rovira A, Arrambide G, et al. Brainstem lesions in clinically isolated syndromes. Neurology 2010; 75: 1933-8.
- DiStadioA, Dipietro L, Ralli M, etal. The role ofvestibular evoked myogenic potentials in multiple sclerosis-related vertigo: A systematic review of the literature. Mult Scler Relat Disord 2019; 28: 159-64.
- Krbot Skoric M, Adamec I, Crnosija L, et al. Tongue somatosensory evoked potentials reflect midbrain involvement in patients with clinically isolated syndrome. Croat Med J 2016; 57: 558-65.
- Preziosa P, Rocca MA, Filippi M. Current state-of-art of the application of serum neurofilaments in multiple sclerosis diagnosis and monitoring. Expt Rev Neurother2020; 20: 747-69.
- Bornsen L, Khademi M, Olsson T, et al. Osteopontin concentrations are increased in cerebrospinal fluid during attacks of multiple sclerosis. Mult Scler 2011; 17 (1): 32-42.
- Sellebjerg F, Bornsen L, Khademi M, et al. Increased cerebrospinal fluid concentrations of the chemokine CXCL13 in active MS. Neurology 2009; 73 (23): 2003-10.
- Teunissen CE, Khalil M. Neurofilaments as biomarkers in multiple sclerosis. Mult Scler 2012; 18 (5): 552-6.
- Matute-Blanch C, Villar LM, Alvarez-Cermeno JC, et al. Neurofilament light chain and oligoclonal bands are prognostic biomarkers in radiologically isolated syndrome. Brain 2018; 141 (4): 1085-93.
- De Stefano N, Giorgio A, Tintore M, et al. Radiologically isolated syndrome or subclinical multiple sclerosis: MAGNIMS consensus recommendations. Mult Scler 2018; 24 (2): 214-21.
- Rocca MA, Battaglini M, Benedict RH, et al. Brain MRI atrophy quantification in MS: From methods to clinical application. Neurology 2017; 88 (4): 403-13.
- Salzer J, Svenningsson A, Sundstrom P. Neurofilament light as a prognostic marker in multiple sclerosis. Mult Scler 2010; 16(3): 287-92.
- Bhan A, Jacobsen C, Myhr KM, et al. Neurofilaments and 10-year follow-up in multiple sclerosis. Mult Scler 2018; 24 (10): 1301-7.
- Hakansson I, Tisell A, Cassel P, et al. Neurofilament levels, disease activity and brain volume during follow-up in multiple sclerosis. J Neuroinflam 2018; 15 (1): 209.
- Petzold A. The prognostic value of CSF neurofilaments in multiple sclerosis at 15-year follow-up. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2015; 86 (12): 1388-90.
- Petzold A, Steenwijk MD, Eikelenboom JM, et al. Elevated CSF neurofilament proteins predict brain atrophy: a 15-year follow-up study. Mult Scler 2016; 22 (9): 1154-62.
- Kuhle J, Disanto G, Lorscheider J, et al. Fingolimod and CSF neurofilament light chain levels in relapsing-remitting multiple sclerosis. Neurology 2015; 84 (16): 1639-43.
- Lee CG, Da Silva CA, Dela Cruz CS, et al. Role of chitin and chitinase/chitinase-like proteins in inflammation, tissue remodeling, and injury. Annu Rev Physiol 2011; 73: 479-501.
- Borras E, Canto E, Choi M, et al. Protein-based classifier to predict conversion from clinically isolated syndrome to multiple sclerosis. Mol Cell Proteomics 2016; 15(1): 318-28.
- Novakova L,AxelssonM, KhademiM,etal. Cerebrospinal fluid biomarkers of inflammation and degeneration as measures of fingolimod efficacy in multiple sclerosis. Mult Scler 2017; 23 (1): 62-71.
- Burman J, Raininko R, Blennow K, et al. YKL-40 is a CSF biomarker of intrathecal inflammation in secondary progressive multiple sclerosis. J Neuroimmunol 2016; 292: 52-7.
- Mollgaard M, Degn M, Sellebjerg F, et al. Cerebrospinal fluid chitinase-3-like 2 and chitotriosidase are potential prognostic biomarkers in early multiple sclerosis. Eur J Neurol 2016; 23 (5): 898-905.
- Sotgiu S, Barone R, Arm G, et al. Intrathecal chitotriosidase and the outcome of multiple sclerosis. Mult Scler 2006; 12 (5): 551-7.
- Comabella M, Dominguez C, Rio J, et al. Plasma chitotriosidase activity in multiple sclerosis. Clin Immunol 2009; 131 (2): 216-22.