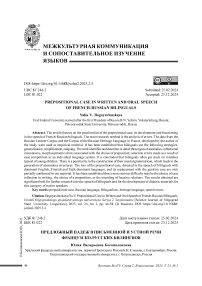Предложный падеж в письменной и устной речи французско-русских билингвов
Автор: Богоявленская Ю.В.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Межкультурная коммуникация и сопоставительное изучение языков
Статья в выпуске: 2 т.24, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению особенностей освоения и функционирования предложного падежа в речи французско-русских билингвов. Основным методом исследования является анализ ошибок. Материалом послужили данные «Русского учебного корпуса» и «Корпуса русского эритажного языка во Франции», разрабатываемого автором исследования. Подтверждено, что билингвы пользуются стратегиями генерализации, упрощения, калькирования. В работе выделены и подробно описаны три типа аномалий: словоизменительные инновации; морфосинтаксические нарушения, связанные с выбором предлога; ошибки выбора, совершаемые вследствие конкуренции падежей. Сделан вывод о частом «застревании» билингвов на ошибках, свойственных детям раннего возраста. Отмечено своеобразие в построении билингвами ментального грамматикона, приводящего к порождению аномальных конструкций. Утрата предложного падежа, фиксируемая в речи билингвов с доминантными английским, финским и таджикским языками, а также его замена на родительный подтверждается лишь частично. Установлено, что более серьезной трудностью может стать выбор падежной флексии на письме, выбор предлога или оформление локативных отношений. Полученные результаты значимы как для дальнейших исследований речи билингвов, так и для разработки дидактических материалов для данной категории носителей языка.
Предложный падеж, русский язык, билингвизм, эритажный язык, речевые ошибки
Короткий адрес: https://sciup.org/149148567
IDR: 149148567 | УДК: 81’246.2 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2025.2.4
Текст научной статьи Предложный падеж в письменной и устной речи французско-русских билингвов
DOI:
Предложный падеж занимает особое место в падежной системе русского языка, поскольку его формы возможны только у имен существительных, синтаксически зависящих от пяти предлогов: в ( о ), на , о / об ( о ), при и по . При этом в ( о ), на , о / об ( о ) управляют также винительным, а по – дательным падежами. Для некоторых существительных имеется вариант – второй предложный (локативный) падеж, встречающийся только после предлогов в и на . Обращение к Национальному корпусу русского языка (далее – НКРЯ) показывает, что, в отличие от других падежей, предложный встречается примерно с одинаковой частотностью и в устном, и в письменном (Основном) корпусах (9,57 и 10,02 % соответственно).
Исследователи детской речи отмечают, что предложный падеж считается одним из «сложных» даже для русскоязычных детей-монолингвов [Дьячкова, Лопухина, 2023, с. 58], которые его осваивают не сразу, а последовательно. Первыми появляются локативные конструкции с предлогами в и на , дети начинают употреблять их безошибочно примерно с трех с половиной лет [Лепская, 1997, с. 47], затем они дифференцируют другие значения падежа и правила конструирования его форм. Билингвы в целом проходят те же этапы освоения падежной системы, что и монолингвы, но, как мы покажем далее, часто значительно медленнее и менее успешно.
В научной литературе за языком естественных билингвов закрепился термин «эри-тажный язык» («язык семейного наследия»), под которым понимается нестандартная разновидность национального языка, отличающаяся рядом специфических черт: обобщение или упрощение грамматических правил, ограничение в коммуникативно-прагматических возможностях и стилистической вариативности, тяготение к более эксплицитному выражению семантических отношений. Этот термин часто употребляется для описания языкового профиля билингвов, иммигрировавших до начала образования на родине, а также детей, чьи родители-иммигранты говорят дома на родном языке [Шустова и др., 2022]. Установлено, что в русском эритажном языке (далее – РЭЯ) происходят изменения в категориях рода, числа, падежа [Выренкова, Полинская, Рахилина, 2014; Ненонен, 2014], глагольного вида и наклонения [Polinsky, Kagan, 2007].
В области падежной системы, и в частности предложного падежа, лингвисты фиксируют различные тенденции, зависящие, вероятно, от того, с каким доминантным языком взаимодействует РЭЯ:
-
1) утрату или замену предложного падежа преимущественно родительным, реже – другими падежами финско-русскими «эритаж-никами» [Власова, 2020]);
-
2) утрату словоизменения внутри предложных групп говорящими с доминантным английским языком [Polinsky, 2018];
-
3) игнорирование управления в предложных группах и использование формы именительного падежа при предлоге у таджикско-русских билингвов [Хашимов, 2018].
Таким образом, в разных вариантах русского эритажного языка обнаруживаются как общие черты (утрата предложного падежа), так и индивидуальные (замена предложного именительным [Polinsky, 2018], [Хашимов, 2018] или родительным [Власова, 2020]). На материале текстов эритажных говорящих с доминантным французским языком подобных исследований не проводилось.
Цель статьи заключается в выявлении особенностей освоения и функционирования предложного падежа в речи французско-русских билингвов. Исследовательские задачи состоят в том, чтобы выяснить, какие стратегии конструирования данного сегмента языковой системы используются эритажными говорящими, в чем состоят особенности порождения высказываний, содержащих комплекс «предлог + существительное в предложном падеже», в какой мере они соответствуют тенденциям, зафиксированным в речи американских, финских и таджикских носителей русского языка. Поскольку стратегии выбора грамматических единиц обнаруживаются в совершаемых ошибках, являющихся «неизбежным следствием построения процесса конструирования индивидом собственной языковой системы» [Цейтлин, Абабкова, 2011, с. 166], мы обратимся к анализу данного «отрицательного» материала.
Материал и методы
Материал исследования собран в двух корпусах: «Русского учебного корпуса» (далее – РУК) и «Корпуса русского эритажного языка во Франции» (далее – КРЭЯФ).
РУК создан по Программе президиума РАН как часть НКРЯ в сотрудничестве с National Heritage Language Resource, лабораторией лингвистических исследований Гарвардского университета под руководством М. Полински и исследовательской группой НИУ ВШЭ под руководством Е.В. Рахилиной. В корпусе представлены образцы речи двух категорий студентов: изучающих русский язык как иностранный и эритажных говоря- щих с 52 доминантными языками. Для исследования были отобраны фрагменты письменных текстов студентов с доминантным французским языком, содержащие аномалии в употреблении предложного падежа. В статье приводятся высказывания в оригинальной форме, без исправлений грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок.
КРЭЯФ – корпус, над которым в настоящее время ведется работа научной группы «Русский эритажный язык» (Уральский федеральный университет) под нашим руководством. Он включает два подкорпуса: устной (более 10 часов звучания) и письменной речи. Материал для устного подкорпуса (далее – УП) представляет собой записи бесед с носителями эритажного русского языка возрастного диапазона от 4 лет 2 месяцев до 20 лет (естественные билингвы), проживающими во Франции. Расшифровка ведется силами научной группы, в состав которой входят студенты, магистранты и аспиранты, и ее руководителем. В письменный подкорпус (далее – ПП) включены тексты различных жанров: сказки, поздравления на открытках, сочинения, стихи, написанные юными билингвами.
Основным методом предпринятого исследования служит анализ ошибок (аномалий, инноваций), зафиксированных в письменной и устной речи билингвов. Установленные особенности билингвального освоения грамматического явления сопоставляются с монолингвальным.
Результаты и обсуждение
Полученные данные говорят о разнообразии ошибок, возникающих при конструировании сочетания предлога и существительного в предложном падеже. С одной стороны, обнаруженные аномалии сходны с теми, которые делают русскоязычные дети-монолингвы в раннем возрасте, с другой – имеют собственную специфику, требуют систематизации и анализа. Их можно объединить в три группы:
-
1) словоизменительные инновации, то есть случаи выбора флексии предложного падежа, предназначенной для другого типа основы или склонения;
-
2) ошибки в употреблении первого компонента «морфосинтаксического каркаса» конструкции – предлога;
-
3) ошибки выбора предложно-падежного сочетания, связанные с конкуренцией падежей.
Ошибки выбора окончаний предложного падежа
Большинство взрослых билингвов верно идентифицируют необходимость использования предложного падежа, но могут сделать неверный выбор его маркера – флексии, предпочитая -е всем остальным вариантам (см. примеры (1)–(8)):
-
(1) Лена считается самой крупной рекой азиатской части страны, она течет в Сибире (Thomas, РУК).
Интуитивно представляется, что эта флексия является самой частотной. Обращение к НКРЯ подтверждает это предположение: - е попало в выборку при небольшом округлении 9 млн раз, -и – 7,6 млн. Окончание локативной формы -у встретилось в 13 раз реже (680 тыс.), -ю – в 204 раза реже - е (44 тыс.). Следовательно, словоформа Сиби-р е построена по базовой, регулярной модели, включающей основу и хорошо известный билингву форматив - е .
Анализ позволяет установить круг слов, не получивших нормативного морфемного оформления. К ним относятся лексемы с j -основой: существительные женского рода III склонения (1), существительные среднего рода II склонения на -ие (2)–(3), существительные I склонения женского рода на -ия (4)–(6):
-
(2) Это играет роль в изменение экономических деятельностей (Lena, РУК);
-
(3) На собеседование сделудет вести себя раскованно (Marina, РУК).
Можно предположить, что Lena и Marina используют «замороженный» именительный, но мы склоняемся к трактовке ошибочного формообразования. Допускаем, что в этих случаях формы именительного и предложного либо совпали в их индивидуальных языковых системах ввиду высокого синкретизма падежей, либо они неверно определяют начальную форму. В пользу такого предположения говорит систематическое употребление -е для образования предложного падежа в их письменных работах.
Любопытно, что даже в таких частотных словах-топонимах, как Франция и Россия , и их словоформах в инпуте билингвы часто допускают ошибки, используя одну и ту же флексию (4)–(7). Ориентируясь на наиболее продуктивную модель, они конструируют окончания, отсутствующие в парадигме склонения существительных на -ия :
-
(4) Земля в россие очень богатая (Adrien, РУК);
-
(5) Во Францие это обучение длится от 2-х до 3-х лет (Eva, РУК);
-
(6) То что не нравится во Францие , это низкий доход и экономическая ситуация страны (Tim, РУК);
-
(7) Во Франциие нужно хорошо разбиратьс в историе , литературе, экономике и в иностранных языках, по сравнению с Россией где знание Русского, Англйиского языка и литературы достаточны (Eva, РУК).
Окончание - е может появиться даже в неизменяемых именах существительных:
-
(8) В сочие маленькая амплитуда температур и много осадков (Léa, 17, ПП КРЭЯФ).
Эти наблюдения говорят о том, что эри-тажные говорящие не извлекают данные формы из памяти в целостном виде, а конструируют их в речи самостоятельно.
В употреблении существительных в локативной форме предложного падежа билингвы нередко также следуют стандартному правилу, требующему использования флексии - е :
-
(9) В аэропорте очень много людей: взрослых, больных, рабочих, детей с всего мира (Amina, РУК).
Нерегулярные модели всегда представляют трудность для эритажных говорящих, которые уверенно используют только наиболее стандартное и хорошо укоренившееся в их индивидуальных языковых системах правило. Одним доступна исключительно флексия -е (например, в работах Adrien, Eve, Thomas используется только этот способ формообразования), другие, не полностью осво- ившие правило, действующее для слов с j-основой, колеблются между -е и -и даже в пределах одного предложения:
-
(10) Бригадария продукции газа в Россие половина по требеленя энерги в России застрохово-на (Adrien, РУК).
Таким образом, для билингвов окончание -е имеет привилегированное положение для обозначения предложного падежа. В научной литературе распространение действия грамматического правила на круг единиц, которые ведению данного правила не подлежат, рассматривается как основная стратегия освоения языка на этапе продуктивности. С.Н. Цейтлин, выдвинувшая идею о соотношении системы и нормы, считает, что ошибки, допущенные вследствие применения данной стратегии, «можно с полным правом назвать системными (нарушающими языковую норму вследствие слишком прямолинейного следования системе)» [Цейтлин, Абабкова, 2011, с. 185]. Если монолингвам требуется совсем немного времени для расширения своего грамматического арсенала, то, как показывает наше исследование, билингвы очень часто остаются на данном этапе.
Интересно для анализа ошибочное написание окончания -и вместо -е , что свидетельствует о непрочном усвоении правила и его произвольном применении:
-
(11) Мы тоже очень веселились и проводили всё свободное время вместе не упоминая о бли-жайщей разлук и (Pauline, РУК).
Русский язык осваивается эритажными говорящими преимущественно в устной форме, на которую они ориентируются при выборе флексии и на письме. Следовательно, аномалию в примере (11) могла спровоцировать несовершенная звуковая оболочка, вызванная редукцией гласного [э] в финальной заударной позиции. Вопрос о фонетической яркости (перцептивной выпуклости) падежных маркеров неоднократно поднимался в научной литературе (см. об этом: [Болотова, 2005; Воейкова, 2015; Slobin, 1997]). В частности, отмечается, что, поскольку [э] в безударном положении звучит и воспринимается практически как [и], этот гласный следует рассматривать как перцептивно слабый. Исследования кафедры фонетики СПбГУ показывают, что в спонтанной речи редуцируются не только безударные, но и до 5 % ударных гласных [Болотова, 2005, с. 9]. В речи билингвов, зафиксированной в нашем устном корпусе, позиция конечного гласного заполняется не совсем четко произносимым звуком, который можно рассматривать как реализацию фонемы <э>.
Если при устной коммуникации выбор флексии в границах маркеров предложного падежа не столь критичен и не приводит к сбоям, то в письменной речи возникает еще ряд затруднений. К таковым для французско-русских билингвов относится употребление мягкого знака на стыке морфем. В доминирующем французском языке отсутствует оппозиция по твердости / мягкости согласных, нет специального буквенного символа, используемого для обозначения смягчения, буква е не обозначает йотированного звука или смягчения предыдущего согласного. Это осложняет задачу самостоятельного конструирования форм и приводит к словоизменительным инновациям (например, в семи вместо в семье ), которые вряд ли смогли бы «изобрести» монолингвы:
-
(12) В семи славянский три подгруппы: - северную - южную - восточную (Viktoria, РУК).
Другая трудность возникает при понимании необходимости обозначить мягкость согласного, что приводит к избыточному использованию мягкого знака:
-
(13) В некторых частьях , я согласен с автором этой статьи, потому что для русских – утро, день, вечер и ночь – звучат логично но для межкультурной коммуникации или просто иностранцам это звучит страно (Rouslan, РУК).
В приведенных выше примерах можно усмотреть следы фонетической интерференции, происходящей по причине фонологической незрелости носителей «унаследованного» языка.
Весьма специфичной аномалией является и потеря гласного или согласного на конце слова (14)–(17) или на стыке корневой морфемы и окончания (18):
-
(14) Все эти права отсутсвуют в Росси конечно, а они важны для Карамзина, так как он просвещенный писатель (Alexandra, РУК);
-
(15) Раньше я не задумывалась об этих фактах, и только с приездом во Франци поняла это (Natalia, РУК);
-
(16) Но при это были сильно ограничены прав и свободы (Anna, РУК);
-
(17) Не лишним окажется повествование о плана на будущее, касающееся профессиональной деятельности (Marina, РУК);
-
(18) Из-за того, что стоимость жизни слишком высокая, некоторые люди, которые живут в больших городах, в плохих жилищных условях (Arlo, РУК).
В (14)–(17) предлог и основа определены верно, но словоформа остается недостроенной (точнее, недописанной). Потеря финальной буквы в слове не столь уж и редка в письменных работах «эритажников», что может объясняться недостаточным синтаксическим контролем. Опущение - х в о плана может говорить как о простой описке, так и о неверном выборе числа и падежа (18). В примерах в Росси и во Франци (14)–(15) отсутствие конечной - и , возможно, связано с нетипичным для доминирующего французского языка соположением двух одинаковых гласных, что мешает говорящему до конца оформить падежную флексию.
Внимания заслуживает и рассмотрение окказионального формообразования , а именно окончаний, отсутствующих в парадигме единственного числа предложного падежа или относящихся к другому падежу и типу склонения. Примерами, иллюстрирующими этот феномен, могут служить слова с флексией - ий , которая в стандартном языке относила бы существительное к именительному / винительному падежу единственного числа II склонения ( санаторий , лекторий ) или родительному падежу множественного числа слов на - ия (аварий , версий) . На наш взгляд, - ий в данном случае представляет собой вариант модификации перцептивно слабого окончания -ии :
-
(19) Мы живем во франций (Ruslan, РУК);
-
(20) Депутаты Русский Думы прибыли во Францию чтобы принять участие на международный конференций по экономичисках вопросам (Tim, РУК);
-
(21) Мои брат работает в притприятий (Ruslan, РУК).
Заметим, что в обоих корпусах не зафиксировано несуществующих аффиксов. Таким образом, выход из набора вариантов оконча- ний русских существительных невозможен, что подтверждает выявленную Д.И. Слоби-ным закономерность: «Даже ошибочный выбор функционального элемента тем не менее происходит внутри данного функционального класса» [Слобин, 1984, с. 192].
Ошибки выбора предлогов
Результаты анализа показывают, что потеря или избыточное употребление предлогов в рассматриваемом комплексе нетипичны для французско-русских билингвов. Однако немногочисленные примеры, обнаруженные в РУК, заслуживают особого внимания, поскольку свидетельствуют о проницаемости границ языковых систем.
Носители эритажного русского языка обычно очень хорошо идентифицируют ситуации употребления комплекса «предлог о + существительное в предложном падеже», имеющего значение содержания или темы. РУК включает большое количество примеров, где данная конструкция встречается при словах (как глаголах, так и существительных) со значением темы (22)–(23), мысли, ментальных процессов (24)–(25), речи (26), эмоционального состояния (27)–(28):
-
(22) Елена купила несколько новых книг о русском искусстве (Thomas, РУК);
-
(23) У Фонвизина, очевиден идеологический проект – разоблачить миф о француской культуре который существует в России (Alexandra, РУК);
-
(24) Я не задумывалась о этих фактах раньше так как когда я в россии разговор афтаматичис-ки идет по-русскому и когда я разговариваю на том или этом зяыке, я не сравняю примеров (Iana, РУК);
-
(25) Что вы думаете о наших детях ? (Thomas, РУК);
-
(26) Он начал спрашивать меня о моей последней поезке (Thomas, РУК);
-
(27) Ученые беспокоются о последствиях этого проекта (Adrien, РУК);
-
(28) Многие люди сейчас сожалеют о распаде СССР и коммун. режима (Anna, РУК).
Однако, несмотря на эту высокую чувствительность, опущение предлога о все же встречается. Источником такой ошибки становится система доминирующего французского языка. В индивидуальном грамматиконе говорящего русский глагол заявить сочета- ется с беспредложным существительным, как и в эквивалентных французских конструкциях с прямопереходными глаголами déclarer, annoncer, signaler:
-
(29) Аналитики заявили ухудшения экономического роста (Gord, РУК).
Калькой является и конструкция говорить несколько языков (ср. фр. parler quelques langues ), в которой опускается предлог на . Вместо предложного используется винительный падеж:
-
(30) В будущем я ищё не знаю где я хочу работать, но я хотела бы работать в месте котором можно говорить несколько языков (Victoria, РУК).
Значительно реже встречается опущение предлогов в локативном значении:
-
(31) В кавказская гора, можно тоже гулять парк национальный в сочи (Léa, 17, ПП КРЭЯФ).
Влиянием межъязыковой интерференции можно объяснить примеры избыточности предлога о , в частности в работах Adrien. Синтаксическое калькирование свободных сочетаний строится по модели с предлогом de : доступ о Россия вместо доступ России (ср. фр. accès de Russie ), сосед о Европе вместо сосед Европы (ср. фр. voisin d’Europe ), парламентарии о Совета вместо парламентарии Совета (ср. фр. parlementaires du Conseil ). Вероятно, в сознании некоторых говорящих существует прочная ассоциация французской модели N + pr ( de ) + N и русской N + Ngen, претерпевающей модификацию и принимающей вид N + pr ( о ) + N . При этом второе существительное может иметь произвольное окончание:
-
(32) Многие собитие помешали доступ о Россия в Совета Европы (Adrien, РУК);
-
(33) Они хотят потому что Россия была очень важная страна, и исторический сосед о Европе (Adrien, РУК);
-
(34) Против аннексия, парламентарии о Совета Европы должен был проголосовать за резолюцию (Adrien, РУК).
Аномалия может быть продиктована как калькированием предлога de, так и переносом валентности глагола discuter, который может как употребляться с прямым дополнением в значении «обсуждать, всесторонне и критически изучив вопрос, для его дальнейшего урегулирования, принятия решения» (LAR), так и управлять предлогом de в значениях «обсуждать какую-либо тему, беседовать», «вести переговоры» (LAR). Такая концентрация правил и лексико-синтаксических тонкостей порождает следующую инновацию:
-
(35) Во время переговорах, участники обсуждали проблемы о стабильности, о возможносте урегурилование политического кризиса в Украине и о поставков вооружения которые угражают безопасности в стране (Tim, РУК).
Подобные ошибки говорят о том, что объема инпута недоминантного языка билингвам было недостаточно для систематизации фактов и выявления правил, поэтому они проводят необоснованные параллели между языковыми системами и, как следствие, допускают ошибки.
Замена предлога
Серьезную проблему для билингвов часто представляет выбор между в [ о ] и на , особенно в пространственных контекстах, где предложный падеж употребляется в качестве невалентного:
-
(36) Самая высокая точка России – Элсбрус в Кавказе (Victoria, РУК);
-
(37) Иркутская область находиться в юге России как показно на карте (Adrien, РУК);
-
(38) Ладожское и Онежское озера расположены на северо-западной части России (Olga, РУК).
Даже взрослым носителям эритажного языка не очевидно, в каких случаях следует употреблять тот или иной предлог. Почему на Кавказе , но в Грузии , на юге , но в северо-западной части ? Замены предлогов в и на возможны у детей-монолингвов до трех лет, и основной их причиной является наличие языковых фильтров, обусловленных нормой [Цейтлин, Абабкова, 2011, с. 173]. Монолингвы довольно быстро осваивают нормативное употребление предлогов, а билингвам часто не удается набрать достаточно языкового опыта, чтобы преодолеть эту трудность.
Приведем еще один любопытный пример, где причина ошибки может быть объяснена внутриязыковой интерференцией, а именно калькированием конструкции на Земле :
-
(39) На мире 250 млн человек говорит на русском (Victoria, РУК).
Заметим, что неправильный выбор предлога (36)–(39) происходит при верном падежном маркировании. В приведенных примерах невозможно усмотреть проявление межъязыковой интерференции, поскольку во французском языке существует набор предлогов, обслуживающих данную область ( dans , à , en , sur ), и действуют иные грамматические и семантические правила. В устных высказываниях также можно обнаружить неправильные, «запрещенные» нормой комбинации предлога с лексемой в предложном падеже, «не-кальки»:
-
(40) Здесь они в пляже . А здесь они в фермы (Maxime, 7;4, УП КРЭЯФ).
Билингв также может оказаться нечувствительным к разнице предлогов в и на в тех случаях, когда глагол имеет валентность, заполняемую формой предложного падежа с ними обоими:
-
(41) Я занимаюсь играть роялью, я также занимаюсь иностранными языками так как в будущем хочу работать на ООН (Victoria, РУК).
Как уже было сказано выше, предлоги и их значения, как и падежные противопоставления, осваиваются ребенком не одновременно. В этом контексте интересен анализ следующего примера:
-
(42) Мой папа говорит на своём работе (Matthieu, 5;5, УП КРЭЯФ).
Matthieu правильно определяет падеж и верно конструирует форму, но вместо о использует на . К 5 годам 5 месяцам ребенок неплохо усвоил оппозицию локативных предлогов в и на (44)–(46), умеет употреблять не только предложный изъяснительный, но и в некоторых случаях второй предложный (47), почти всегда различает случаи употребления винительного (48)–(50) и предложного:
-
(43) Это в ванной (Matthieu, 4;11, УП КРЭЯФ);
-
(44) На море есть солнце (Matthieu, 4;11, УП КРЭЯФ);
-
(45) Она открыла окно чтобы посмотреть на улице (Matthieu, 4;11, УП КРЭЯФ);
-
(46) Он гуляет в лесу (Matthieu, 5;5, УП КРЭЯФ);
-
(47) Она поставила голову в баночку (Matthieu, 4;11, УП КРЭЯФ);
-
(48) Он взял лягушку и поставил в воду (Matthieu, 4;11, УП КРЭЯФ);
-
(49) Он вышел на улицу (Matthieu, 5;5, УП КРЭЯФ).
Однако конструкция с предлогом о , выражающая валентность темы, пока еще не включена в его индивидуальный грамматикон и, видимо, временно эту функцию берет на себя предлог на , который, как подтверждает мама билингва, часто звучит в сочетании со словом работа в домашнем общении (например, папа на работе ), ср. с примером (43).
Значение темы Matthieu часто выражает предлогом на под влиянием французского языка: книга на кошку, книга на Чупи (ср. с фр. le livre sur un chat, le livre sur T’choupi ).
Особую трудность составляет при , встречающийся исключительно в письменных работах студентов-«эритажников» (за исключением дискурсивного маркера при этом ). Сфера применения этого предлога может либо расширяться: при возврате вместо по возвращении (50), при приздом вместо по приезде (51), при деловых переговорах вместо в деловых переговорах (52), при следующем собеседовании вместо на следующем собеседовании (53), либо сужаться, что приводит к его замене другими предложно-падежными конструкциями (54)–(55):
-
(50) После оказания медицинской помощи, при возврате в родную страну, приходится пациенту связываться со страховым обществом (Dariusz, РУК);
-
(51) Эта ускоренная программа по английскому языку с первого класса мне очень помогла с моим первым контактом со взрослыми людьми при приздом во Францию (Eva, РУК);
-
(52) Данный стиль применяется в правовой и административной сфере в основном в государственных учреждениях, в суде, при деловых переговорах (Dariusz, РУК);
-
(53) Следует проанализировать возможные причины «провала» и постараться их исправить при следующем собеседовании (Marina, РУК);
-
(54) На перевод данных единиц можем использовать переводческий прием – калькирование (Dariusz, РУК);
-
(55) В капитализме , либо ты работаешь на кого-то, либо другие работают на тебя (Ekaterina, РУК).
Представляется, что при возврате (50) и на перевод (54) извлечены из ментального лексикона гештальтно, целым «блоком», а остальные примеры сконструированы в речи. За подобными примерами прослеживается применение стратегии «не-калек», весьма характерной для носителей «унаследованного» языка (см. об этом: [Вы-ренкова, Полинская, Рахилина, 2014, с. 7]), «изобретающих» свои модели конструкций, не перенося их из одной языковой системы в другую.
Типичной ошибкой можно считать случаи экспансии наречий, строящихся по модели по- + -и. В лексико-синтаксических инновациях, сконструированных эритажными говорящими, можно увидеть морфологически корректную форму предложного падежа русском в сопровождении предлога по вместо в , видимо, по аналогии с по-русски (56)–(57). В (58) наблюдается то же намерение использовать наречие по-французски , неприемлемое в данном контексте. В (59) ошибка допущена в выборе предлога ( по вместо на ), который повлек за собой и выбор падежной формы:
-
(56) Нет одного слово как и по русском оно может иметь разные значения (Iana, РУК);
-
(57) День для меня значит с утра до вечера в россии или по русском языке а во франции есть «midi» или «après-midi» но есть также «la journée» (Iana, РУК);
-
(58) В моем родном язике то есть по францус-ким , одно то же слово имеет разные значения и пишется по разнич формам (Anthony, РУК);
-
(59) И так я думаю что самое важное чтобы понять културу иностранных людей это говорить, даже не много, по ихнему языку (Félix, РУК).
Любопытно, что, как и в случае с топонимами Франция и Россия , словосочетания « в к.-л. языке » ( в русском , во французском ), « говорить на к.-л. языке » и « говорить по- » ( по-французски , по-русски ) не успели укорениться в языковых системах эритажных говорящих и часто смешиваются. Независимо друг от друга они изобретают одну и ту же модель, объединяющую две конструкции с глаголом и наречием / прилагательным.
Варианты предлогов об ( о ) и во
Правила выбора между о и его вариантами об ( о ), использующимися перед формами, начинающимися гласными, не всегда ясны для билингвов. В корпусе находим и редкие случаи корректного употребления предлога (60), и ошибочные (61)–(64), свидетельствующие об использовании стратегии упрощения. Статистически более редкий об , как правило, заменяется на о ; расширение сферы его применения встречается крайне редко (63). Примеры с обо в нашем материале отсутствуют, в нужных контекстах перед местоимениями, начинающимися несколькими согласными, допускаются ошибки (64):
-
(60) Правда говоря я ужо задумывался об этих фактах раньше, когда я изучял Француский язык (Rouslan, РУК);
-
(61) Часто спрашивуют о опыте и предыду-ших работах (Thomas, РУК);
-
(62) Иногда спрашивают о обших интересах и чего мы можем принести компании (Thomas, РУК);
-
(63) Содержательная часть несет главную информацию об предмете договора (Dariusz, РУК);
-
(64) Люди всегда спокойные и можно по разговаривать о всём (Tim, РУК).
Несмотря на простоту правила, регулирующего употребление предлога во (перед словами, начинающимися сочетанием « в или ф + согласный»), в корпусе обнаруживается достаточное количество ошибок (65)–(68):
-
(65) В Франции , я думаю, интерес к иностранным языкам существовал всегда (Anna, РУК);
-
(66) Словарный запас научного стиля современного русского языка интересна наличием некоторых единиц, которые в значительной мере отличаются от лексикального уровня в французском языке (Dariusz, РУК);
-
(67) В французском мы скорее будем вынуждены употреблють слова «Monsieur» и «Madame» (Alina, РУК);
-
(68) Как никак они вынужденны составить своё общество в французском обществе , которое их не принимает (Pauline, РУК).
Как видим, общие языковые правила усвоены хорошо, а частные и исключения – игнорируются или применяются произвольно.
Конкуренция падежей в речи билингвов
В работах об особенностях падежного словоизменения часто указывается, что количество падежей в эритажном русском языке сокращается. В частности, Е.А. Власова выявила в речи финско-русских студентов активную экспансию родительного падежа на контексты с предложным [Власова, 2020, с. 379–380]. Эти данные очень любопытны, особенно в свете сравнения с картиной употребления данного падежа в речи французско-русских эритажных говорящих.
В нашем материале выявляются две основные проблемы: 1) конкуренция предложного с именительным и/или винительным; 2) построение локативных конструкций с предлогами в и на . Взаимозамены предложного с другими падежами крайне редки, их можно отнести скорее к оговоркам (опискам), нежели к систематическим ошибкам.
Именительный / винительный вместо предложного
Использование формы именительного падежа для передачи семантических ролей, свойственных косвенным падежам, и отсутствие предлога может встречаться лишь крайне редко у детей-монолингвов второго года жизни: «многие дети вообще не проходят данной стадии, или же она оказывается чрезвычайно краткой» [Цейтлин, Чиршева, Кузьмина, 2014, с. 96–97]. Процесс освоения языка у билингвов проходит несколько иначе, в их речи нередки подобные, «запрещенные» нормой предложно-падежные конструкции, включающие в том числе и «замороженный» именительный. По существу, данная форма – это псевдо-именительный, омонимичный референциальной форме наименования, за которым стоят значения всех падежей. Более того, у билингвов «замороженная» форма может с именительным не совпадать. Отвечая на вопрос Где это? дети используют то псевдоименительный, то предложный, то редуцируют слово до основы:
-
(69) Магазин. На пляж. На классе. На ванна. На ферм (Nastia, 5;3, УП КРЭЯФ);
-
(70) На ванне. На пляж. Это не в школь (Adam, 6;4, УП КРЭЯФ).
Даже в ситуации, где ожидается именительный (в ответах на вопросы Кто это? Что это? ), они также дают противоречивые ответы:
-
(71) Девочка. Лягушка. Олень. Собаку (Nastia, 5;3, УП КРЭЯФ);
-
(72) Мальчик. Дом. Птиц. Яйц. Тарельк. Чашк. Девочк. Носочк (Adam, 6;4, УП КРЭЯФ).
Adam мало говорит по-русски, и, как мы подметили, многие существительные у него оканчиваются согласными. Вероятно, сказывается влияние доминантного языка: во французском преобладающее количество существительных имеют согласные на конце. Падежное противопоставление отсутствует, а конструирование формы во множественном числе, как правило, не влечет за собой каких-либо изменений в финали, что он и переносит на русский. Редукция гласных на конце осложняет освоение словоформ.
В письменной и устной речи молодых билингвов можно встретить «замороженные» формы, конкурирующие с правильными:
-
(73) Можно также кататься в квадроциклах летом или аэросани (Grégory, РУК);
-
(74) Он ноходится на севере Россий, на полуостров Ямал (Adrien, РУК);
-
(75) В Германии я был в Кёльн и Штутгарт (Vlad, 16, УП КРЭЯФ);
-
(76) Мальчик сидит на дерево (Svetlana, 15, УП КРЭЯФ);
-
(77) Мальчик стоит на камень , держит животное (Svetlana, 15, УП КРЭЯФ).
В существительных I и III склонения единственного числа и одушевленных во множественном числе флексия однозначно маркирует именительный (78)–(81) или винительный падеж (82):
-
(78) Совет Европы осуждает вмешательство России на Украина (Adrien, РУК);
-
(79) В Италия мы были, в Бельгии в Брюссель, Монс, Турне (Vlad, 16, УП КРЭЯФ);
-
(80) Где ты можешь говорить по-русски? – В Россия (Roxane, 9, УП КРЭЯФ);
-
(81) Это на ферма (Roxane, 9, УП КРЭЯФ);
-
(82) Мы сосредоточили наше внимание на субституцию предметных понятий, которая является по нашему мнению единственным правильным подходом в процессе перевода вышеупомянутой области (Dariusz, РУК).
Наличие прилагательных или местоимений-прилагательных не может считаться надежным инструментом дифференциации (83)– (87), поскольку их рассогласованность с существительным – не редкое явление. Важно при этом отметить, что прилагательные гораздо лучше «сотрудничают» с предлогом: конструкции « в мой » (83), « на главные » (84), по сути, не являются некорректными, но после них ожидается существительное в винительном падеже, неуместном в данном контексте. За комплексами « в английском », « в нашей » должен следовать предложный. Аграмматичными их делает именно ошибка в последнем элементе сочетания. Полагаем, что первая часть конструкции извлекается из памяти целостно, в виде собранных и готовых к использованию блоков, а вторая – конструируется по ходу высказывания. Применение подобной тактики совершенно несвойственно русскоговорящим монолингвам при освоении языка:
-
(83) Этам летом я буду в мой бассейн (Mariya, РУК);
-
(84) Данная часть сосредоточивается на главные моменты переводческого процесса перевода личных документов (Dariusz, РУК);
-
(85) Здрастьвуте, я буду говорить об Иркутская область (Grégory, РУК);
-
(86) В английском язык , как и во французском, «утро» – это время до 12 часов дня (Zura, РУК);
-
(87) Чтобы структура в нашей диссертация была очень точный (Vlad, 16, УП КРЭЯФ);
-
(88) Это мы учили в терминальный класс (Vlad, 16, УП КРЭЯФ).
Отметим, что, хотя «замороженная» форма встречается в речи билингвов даже с достаточно высоким уровнем владения русским языком, в целом билингвы не склонны к ее регулярному использованию, предпочитая выражать грамматические отношения при помощи той или иной флексии.
Локативные конструкции с предлогами в и на
Для русского языка характерна следующая стратегия оформления пространственных отношений: «направление в сторону ориентира и местонахождение выражаются предлож- ными группами с одним и тем же предлогом (в, на, под, за), но разными падежными формами» [Воейкова, 2011]. Несмотря на четкое противопоставление статики (предложный) и динамики (винительный), как дети, так и взрослые эритажные говорящие часто неверно выбирают падеж, причем замечена явная тенденция: предпочтение отдается «статической» конструкции (89)–(94). Обратная замена предложного винительным встречается крайне редко (95)–(96). Интересно, что эта же закономерность была подмечена и у детей-моно-лингвов в возрастном диапазоне от полутора до трех лет. М.А. Еливанова полагает, что ребенку при освоении родного русского языка «при употреблении предложно-падежных конструкций важнее обозначить локализацию предмета, нежели собственно его статическое или динамическое состояние» [Еливано-ва, 2011, с. 106]). У монолингвов дифференциация этих значений происходит к пятилетнему возрасту, когда полностью складывается система падежного словоизменения и за каждым падежом закрепляются определенные значения. Билингвам сложнее выстроить устойчивую систему из-за недостатка языкового материала, и некоторым из них так и не удается перейти к различению цели движения и места. Особенно много таких примеров в нашем устном корпусе. Причины, как мы полагаем, две: во-первых, при порождении устного высказывания синтаксический контроль слабее, во-вторых, уровень владения языком часто ниже, поскольку многие из опрошенных не имеют языкового образования, некоторые даже не умеют читать и писать:
-
(89) Заяц едет в подъёмнике на станции в горах (Tatiana, РУК);
-
(90) Они идёт со мной в зале мускуляции (Vlad, 16, УП КРЭЯФ);
-
(91) Мальчик вышел на улице (Vlad, 16, УП КРЭЯФ);
-
(92) И они может быть пойдет в лесу (Maxime, 7;4, УП КРЭЯФ);
-
(93) Мальчик упал на голове оленя (Roxane, 9, УП КРЭЯФ);
-
(94) В сочи, можно ходить на пляж, ходить в водной центре и гулять озеру (Léa, 17, ПП КРЭЯФ);
-
(95) Он встречалсья с многими известными людьми в Кубе с Каста, и с Эрнестом, на рыбалку (Marharyta, РУК);
-
(96) Как результат внутренней политики, мы можем сказать что земский собор помогал ивану провит в россию (Lena, РУК).
Конкуренция предложного с другими падежами
Экспансия родительного падежа может наблюдаться при обозначении времени или временного интервала, при этом предлог выбирается чаще всего верно:
-
(97) Например в 19 века когда было много заражений холерой в мире, наука помагла потом найти вакцину против холеры (Lena, РУК);
-
(98) Место парламента в 4 октября 1993 и тоже война в чечне в декабря 1994 волновался общее собрание о Совета Европы (Adrien, РУК).
В остальных случаях фиксируется та же тенденция: выбор предлога, как правило, делается правильно, ошибочной оказывается флексия родительного падежа:
-
(99) Сегодня на улице меня допрашивал полицейский о моих документов (Pauline, РУК);
-
(100) Левые презнали своё положение в де-портаметских выборов , в которых социалисты не достигли прогесса (Tim, РУК);
-
(101) Моя старшоя сестра работает в больницы (Ruslan, РУК);
-
(102) Собачка застряла в бокала (Roxane, 9, УП КРЭЯФ).
Случаи замены предложного другими падежами, как и других падежей предложным, единичны и выглядят как частные ошибки, не укладывающиеся в общую систему.
Заключение
Проанализированный языковой материал позволил установить основные стратегии в освоении и употреблении предложного падежа в письменной и устной речи французско-русских билингвов. К ним относится генерализация, основанная на установлении аналогий разной глубины; упрощение, проявляющееся в игнорировании грамматических нюансов; калькирование, выступающее следствием межъязыковой интерференции. В речи билингвов встречаются «не-кальки», то есть «изобретенные» конструкции, отсутствующие в русской и французской языковых системах. Эритажные говорящие с доминантным французским не склонны к опущению или избыточному употреблению предлогов и к десеман-тизации предложного падежа. Допускаемые ими ошибки можно отнести к трем типам: словоизменительные инновации, происходящие из-за неверного выбора падежной флексии, используемой для другого типа основы или склонения; морфосинтаксические нарушения, связанные с выбором предлога; ошибки выбора, совершаемые вследствие конкуренции падежей в их индивидуальной языковой системе.
Обнаруженные отклонения свидетельствуют, с одной стороны, о частом «застревании» билингвов на ошибках, свойственных русскоязычным монолингвам раннего возраста, что происходит из-за недостаточного в количественном и качественном отношении инпута, с другой – о своеобразии в освоении языка, что проявляется в ошибках, которые совершенно несвойственны русским детям. Недостаточно освоенные грамматические и семантические правила становятся причинами стойких аномалий, возникающих даже в речи взрослых «эритажников», получающих высшее лингвистическое образование.
Обнаруженные морфосинтаксические нарушения лишь частично подтверждают результаты других исследований, в частности, не выявлено тенденции к утрате предложного падежа. На наш взгляд, замена предложного падежа именительным несколько преувеличена в научной литературе. Полученные данные говорят о том, что конструкции с псевдоиме-нительным при их рассмотрении в сопоставлении с правильными употреблениями и с другими речевыми сбоями составляют незначительную часть материала. Более серьезную проблему составляет, например, выбор падежной флексии на письме или оформление локативных отношений.
Описание и классификация ошибок в речи билингвов представляют собой актуальные задачи, решение которых значимо не только для теоретической лингвистики, но и для методики преподавания русского языка за рубежом. Выявление их механизмов может помочь в разработке дидактических материалов, предназначенных специально для билингвов, находящихся в отрыве от лингво- культурного контекста, в условиях недостаточного погружения в язык для его качественного овладения.