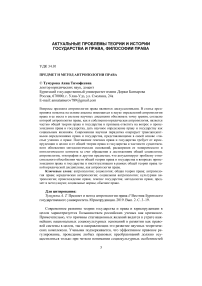Предмет и метод антропологии права
Автор: Тумурова А.Т.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Юриспруденция @vestnik-bsu-jurisprudence
Рубрика: Актуальные проблемы теории и истории государства и права, философии права
Статья в выпуске: 2, 2019 года.
Бесплатный доступ
Вопросы предмета антропологии права являются дискуссионными. В статье предпринята попытка на основе анализа имеющихся в науке определений антропологии права и ее места в системе научных дисциплин обосновать точку зрения, согласно которой антропология права, как и собственно юридическая антропология, является частью общей теории права и государства и призвана ответить на вопрос о происхождении права и государства, дать научное определение праву и государству как социальным явлениям. Современная научная парадигма оперирует трансцендентными определениями права и государства, представляющими в своей основе «чистые учения» о праве. Постижение генезиса права и государства требует от юриспруденции в целом и от общей теории права и государства в частности существенного обновления методологических оснований, расширения ее эмпирического и онтологического контента за счет обращения к достижениям общей социологии, антропологии, этнографии и другим предметам, что актуализирует проблему относительного обособления части общей теории права и государства в вопросах происхождения права и государства и институализации в рамках общей теории права такой юридической дисциплины, как антропология права.
Антропология, социология, общая теория права, антропология права, юридическая антропология, социальная антропология, культурная антропология, происхождение права, генезис государства, методология права, предмет и метод науки, социальные нормы, обычное право
Короткий адрес: https://sciup.org/148317908
IDR: 148317908 | УДК: 34.01
Текст научной статьи Предмет и метод антропологии права
Тумурова А. Т. Предмет и метод антропологии права // Вестник Бурятского государственного университета. Юриспруденция. 2019. Вып. 2. С. 3–19.
Современное развитие теории государства и права и юриспруденции в целом характеризуется большинством российских ученых как кризисное. Примечательно, что причины стагнационных явлений видятся в утрате важнейших национальных социокультурных оснований в развитии как правовой системы в целом, так и направляющих это развитие научных теоретических комплексов. Учеными подчеркивается, что эффективное правовое регулирование, проведение любых правовых преобразований должно осуществляться только при четком понимании социокультурных особенностей национальной правовой системы [11]. Особенную актуальность данные вопросы приобретают в связи с усилением деструктивных тенденций в международных отношениях, противоречиями экономического развития, а также вовлеченностью России в процессы, вызванные глобализацией. Следует подчеркнуть, что бурное развитие естественных наук, информатики, появление новых информационных технологий обостряют необходимость интенсификации обществоведения. «Чем интенсивнее и шире внедряются в промышленное производство достижения естественных наук, тем с большей необходимостью выявляется объективная потребность в научном определении социальных условий и последствий этого внедрения. Сами же социальные условия развиваются по законам, изучаемым общественными науками» [7]. В свете указанных тенденций необходимость в фундаментальных исследованиях, разработках проблем методологических оснований общей теории права и государства, выявлении национальных особенностей в правовом регулировании видится наиболее рельефно.
В общем перечне фундаментальных проблем теории государства и права проблема происхождения права и государства занимает особое место в силу важности вопроса в аспекте ее методологической роли в изучении правовых явлений и процессов, построения теоретических моделей, осмысления тактических и стратегических задач в правовом регулировании [4].
В крупнейших правовых учебных заведениях России начиная с конца 90-х и начала 2000-х гг. стали вводиться курсы по антропологии права. Чем вызван интерес юристов к проблематике юридической антропологии?
Большинство исследователей этого направления сходятся в том, что публикация в 1999 г. по инициативе академика В. С. Нерсесянца книги Н. Рулана «Юридическая антропология», снабженной предисловием этого крупнейшего российского теоретика права «Юридическая антропология как наука и учебная дисциплина», стала отправной точкой в становлении новой учебной дисциплины. Начиная с этого периода, опубликован ряд отечественных учебных пособий по курсу, в том числе: «Антропология права» А. И. Ковлера, изданная в 2002 г.; «Социокультурная антропология права»: коллективная монография под редакцией И. Л. Честнова и И. А. Исаева; защищены диссертации, в том числе докторская диссертация в 2001 г. О. А. Пучкова «Юридическая антропология и развитие науки о государстве и праве: теоретические основы» и др.
Вместе с тем статус и место антропологии права в системе наук о человеке и обществе остаются предметом дискуссий.
Следует согласиться с мнением П. Костогрызова о том, что в России антропология права развивается по двум параллельным линиям. Одна из них существует относительно давно, как субдисциплина социальной (культурной) антропологии. …Исследовательские усилия научного сообщества, сформировавшегося вокруг этого направления, сосредотачиваются в основном на изучении обычного права и юридического быта коренных народов. Другая линия начала формироваться во 2-й половине 1990-х гг. внутри научного сообщества юристов. Однако во взглядах юристов на предмет и метод новой дисциплины нет единства. Так, В. С. Нерсесянц и А. И. Ковлер видят в антропологии права самостоятельную научную и учебную дисциплину наряду с другими фундаментальными юридическими науками. «В системе юридических наук и юридического образования юридическая антропология занимает свое особое и самостоятельное место в ряду таких общенаучных юридических дисциплин, как теория права и государства, философия права, социология права, психология права, история права, государства и правовых учений, сравнительное правоведение», — пишет в этой связи В. С. Нерсесянц [12]. На этих же позициях построено диссертационное исследование О. А. Пучкова, который считает антропологию права «средством гуманизации правоведения, задачу своего исследования видит в инкорпорации в правовую науку (а значит, и в юридическую практику) проблему человека в правовой системе» [13].
Иная точка зрения представлена в работе И. Л. Честнова и И. А. Исаева, которые в антропологии права видят «новый методологический подход в сфере общей теории права и юридической науки в целом, специфический подход к анализу и репрезентации правовой реальности, более глубокий, нежели исповедуемый догматической юриспруденцией.... Специальная институционализация этой дисциплины и не требуется» [14].
На наш взгляд, следует согласиться с позицией И. Л. Честнова и И. А. Исаева в той части, что антропология права имеет непосредственную связь с теорией права и государства, также в части ее методологического значения для юриспруденции. Вместе с тем необходимо подчеркнуть принципиально иной подход к вопросу о соотношении новой дисциплины как с юриспруденцией, так и с общей и социальной (или культурной) антропологией.
Рассуждая о природе различий в определении научного направления, П. И. Костогрызов отметил, что одни из исследователей видят предметом юридической антропологии человека (его правовые проявления, измерения и характеристики), другие — право.
Обратимся к сравнительному анализу имеющихся в литературе определений антропологии права. Так, Норбер Рулан считает, что «юридическую антропологию можно определить как дисциплину, которая путем анализа письменного или устного слова, практики и системы представительства изучает процессы юридизации, свойственные каждому обществу, и стремится выявить внутреннюю логику» [19].
А. И. Ковлер в своем во многом схожем с вышеизложенным определении не только конкретизирует объекты анализа, но и значительно расширяет предмет науки: «Юридическая антропология, или антропология права, — это научная и учебная дисциплина, которая путем анализа устных или письменных памятников права, практики общественной жизни исследует процессы юридизации человеческого бытия, свойственные каждому историческому типу цивилизации, и стремится выявить закономерности, которые лежат в основе социального и правового быта человеческих общностей» [8].
Более известно определение антропологии права, данное В. С. Нерсе-сянцем: «Юридическая антропология — наука о человеке как социальном существе в его правовых проявлениях, измерениях, характеристиках. Она изучает правовые формы общественной жизни людей от древности до наших дней» [12].
Схожая позиция и у сравнительно молодой плеяды российских исследователей. Так, П. И. Костогрызов пишет, что «предметом юридической антропологии является правовое бытие человека во всей его многогранности, то, что дореволюционные русские юристы называли «юридическим бытом». Более строго этот предмет представляется возможным определить в границах поведения личности и общностей разного порядка в юридическом поле, обусловленного контекстом конкретной культуры, с присущими ему как вариативностью, так и инвариантами» [9]. Задачи юридической антропологии автор видит в познании правового поведения людей разных культур и на базе этого знания выявить те универсалии, которые определяют присущие виду homo sapiens рамки правового поведения» [9, с. 85].
Детализация приведенного определения вызывает больше вопросов, нежели отвечает на вопрос, что есть предмет антропологии права. Так, правовое бытие является предметом онтологии права. Тогда каково соотношение антропологии права с онтологией права? Далее предпринятое уточнение, вводящее термин «юридическое поле в контексте культуры», далее «вариативность и инвариативность», «универсалии» еще более затуманивают и без того нечеткие контуры новой дисциплины.
Одно несомненно, что приведенное определение юридической антропологии разделяет идею о цивилизационном многообразии права, присущую теории «правового плюрализма», критика которой изложена далее по тексту.
Однако, резюмируя все вышеприведенные определения, отметим два важных аспекта: во-первых, в каждом из них имеется указание на изучение процессов юридизации человеческого бытия, который, на наш взгляд, есть не что иное, как происхождение права и государства; во-вторых, все они фактически включают, в той или иной формулировке, закономерности правового бытия или правовой действительности, что является предметом теории права и государства, точнее онтологии права.
Данные выделенные обстоятельства важны в аспекте нашего видения предмета антропологии права как составной части общей теории права и государства, призванной ответить на вопрос об общих и специфических закономерностях происхождения права и государства, где антропологический статус указывает на связь с современными теориями происхождения человека как социального существа. Иными словами, антропология права изучает происхождение права и государства как явления, отражающего закономерности этого акта зарождения и последующей эволюции человека как социального существа, логику процесса, в своем естественном движении порождающего комплекс социальных и иных предпосылок генезиса права и государства. Задача антропологии права как составной части общей теории права и государства состоит в постижении этих закономерностей. Подчеркнем, что предмет антропологии права сформирован и актуализирован логикой и спецификой развития общей теории права и государства как социологического направления в юриспруденции.
Когда исследователь ставит вопрос об институализации антропологии права, то это свидетельствует, главным образом, о необходимости решения двух взаимосвязанных задач: познания социальных детерминантов возникновения права, как естественного явления, изначально предопределенного самим актом происхождения человека, как социального существа, изучения эффективности действия права и многочисленных его проявлений в действительности, как явления, закономерно вытекающего непосредственно из сущности и природы самого человека; обогащения методологического арсенала общей теории права и государства системными знаниями (теориями) происхождения человека, привлечения всего богатства антропологических теорий.
В силу сложности и многоаспектности поставленных задач необходимость институализации антропологии права — назревшая в юриспруденции проблема. При этом институализация — естественный и закономерный этап в развитии юриспруденции, свидетельство качественно нового этапа в познании права и государства, предопределенного ходом развития как самой юриспруденции, так и комплекса общественных и естественных наук. Рождение антропологии права как самостоятельной и обособленной юридической научной дисциплины характеризует победу естественнонаучного, т. е. социологического, подхода к определению и изучению права.
Сказанное не умаляет значения трансцендентальных теорий права, однако всем и конкретно каждому из учений о праве определяется место в философии права и в истории политических и правовых учений.
В свете изложенной позиции рассмотрим соотношение антропологии права с общей и социальной антропологией. С этой целью обратимся к дискуссионному вопросу об объекте антропологии права.
Как известно разграничение предметов исследований между научными дисциплинами сопряжено с определением ее (научной дисциплины) объекта.
«Объективная реальность, которая выступает началом теоретического познания и противостоит познанным закономерностям как своей бледной, неполной, а иногда и искаженной копии, отраженной в форме понятий и категорий и иных абстракций, понимается как объект науки» [15]. Так к какой же относительно самостоятельной реальной действительности обращена антропология права в поисках первичного эмпирического уровня своего научного познания?
Антропология (от греч. antropos — человек, logos — слово, учение) — биологическая наука о происхождении и физической эволюции человека. Социальная (или культурная) антропология — в англоязычном обществознании наука о народах, в российской научной традиции определяемая как этнография1.
И у первой, и у второй научной дисциплины предметом исследования являются закономерности такого многогранного явления, как человек, в котором и природное, и социальное составляют сложное и неразрывное единство. Однако научное познание человека разграничено на две иногда беско- нечно далеких друг от друга области. Социальная сущность человека постигается изучением общества, определяющего эти социальные качества человека. Общество изучается многими научными дисциплинами, объединенными общей социологией. Разделом общей социологии выступает юриспруденция, усилия которой направлены на постижение социальных закономерностей правовой действительности. Никто лучше не написал о предмете социологии права, чем Д. А. Керимов: «Социология права, будучи одной из составных частей общей теории права, изучает правовые явления и процессы в аспекте их социальной детерминации, содержания и функционирования в качестве одного, целостно-системного образования. …Право концентрированно отражает в юридической форме все многообразие и разнообразие бытия (не только социального, но и природного), которое мысленно охвачено и теоретически обобщено прежде всего социологией права, как синтезирующей наукой» [7]. При этом все многообразие юридических наук объединено общим объектом — такой объективно существующей реальностью, как право [7].
В фокусе социальной антропологии — культура в единстве материального и духовного. Принято считать, что цель изучения социальной антропологии — закономерности происхождения культурного многообразия.
Думается, что вопрос о предмете социальной антропологии весьма сложный и неоднозначный, и в рамках настоящей статьи не представляется возможным дать развернутую характеристику проблемы. Вместе с тем нельзя не отметить один из аспектов, имеющий непосредственную связь с вопросом о предмете и методе антропологии права. Окружающий нас объективный мир состоит из природной среды и среды, которую создал человек. Второе современной наукой определяется как культура. Нет необходимости специально отмечать взаимосвязь первого и второго, более актуально отметить закономерности неуклонного роста значения культуры для человека.
Вернемся к вопросу о статусе нового научного направления, которое рядом исследователей характеризуется как составная часть социальной антропологии или антропологии вообще. В связи с этим зададимся вопросом, что значит видеть человека сквозь призму права? Что значит видеть человека, создающего право? Что в данном случае есть объект научного познания, какую конкретно объективную реальность изучая, мы хотим постичь человека как homo juridicus?
В этом плане показательно, что большинство из вышеприведенных определений содержат прямые указания на объект антропологии права в виде, например, устных и письменных правовых памятников, а также на иные сведения о правовом быте. А памятники и то, что называют правовым бытом, есть только внешняя форма, носитель интересующей нас информации в виде правовых норм. Отсылка в вопросе об объекте науки к его источнику не столь проста, как кажется на первый взгляд. За ней стоит давняя научная традиция разделения научных специальностей по методу научного изыскания. Так, социологи, которые занимаются раскопками, называются археологами, те, которые изучают древние манускрипты, — собственно ис- ториками, этнографы изучают быт и жизнедеятельность экзотических народов и т. д.
Из сказанного следует, что проводником антропологов права к указанной выше цели является право в виде совокупности особых, отличных от иных социальных регуляторов, правил, выраженных во взаимных правах и обязанностях, что определяет юридический статус нового научного направления. Внешняя форма таких правил весьма разнообразна, начиная от формальных источников в виде нормативных правовых актов, древних рукописей, каменных стел и т. п., заканчивая различными мифами, преданиями, ритуалами и обрядами.
При этом необходимо осознавать, что современные, позитивистские по своему происхождению, представления о праве основаны на абсолютизации его внешней формы, вследствие чего юридическая наука фактически отказалась от изучения феномена обычного права, носящего преимущественно устный характер. В этом главная, на наш взгляд, предпосылка видения антропологии права как составной части социальной антропологии.
Сторонники такого подхода призывают к постижению сущности человека «сквозь призму права». Так, ряд исследователей утверждают, что «юридическая антропология — наука в первую очередь о человеке и лишь во вторую — о праве. Это позволяет провести четкую грань между ней и юридическими науками в собственном смысле. В фокусе юриспруденции (даже рассматриваемой с последовательно антропологических позиций) находится право, тогда как объектом изучения антропологии, в том числе юридической, всегда остается человек» [8].
Ее задачами определяют «исследование правового бытия человека и поиск «человеческих корней» права, т. е. тех граней человеческого бытия и права, которые выпадают из поля зрения других отраслей антропологии, с одной стороны, и юриспруденции — с другой». А. И. Ковлер отмечает, что «объект ее отличен от объекта юриспруденции. Антропология права «подпитывает» юридическую науку идеями, вооружает методологическим инструментарием, снабжает научными фактами, практическими рекомендациями, но сама не является в строгом смысле ее частью» [8].
Необходимо, с нашей точки зрения, отметить одно важное обстоятельство: антропология права в определении указанных сторонников — субдисциплина, подчиненная социальной антропологии. Зададимся вопросом: какая необходимость самостоятельному научному направлению дополнительный, но при этом относительно самостоятельный предмет антропологии права? Если культурная антропология не может постичь своей конечной цели познания в отрыве от антропологии права, то как быть с ее самостоятельностью?
Может ли социальная антропология, абстрагируясь от права, базируясь исключительно на изучении материальной культуры, или также верований и нравов, постичь закономерности социального бытия? На этот вопрос трудно ответить однозначно, поскольку природа социального имеет неразрывную, имманентно социальному присущую связь с нормативной культурой. Социальные отношения, как особая форма материи, рождаются из актов взаимодействия человека с человеком. Следовательно, в основе общественных свя- зей находятся социальные нормы. Отсюда следует вывод: совокупность общественных наук, объектом исследования которых является право, особая разновидность социальных норм, составляют систему юридических дисциплин, определяемую как юриспруденция. Иные общественные науки сосредотачивают свое внимание на таких социальных регуляторах, как мораль, нравственность, обычаи, традиции, религиозные и корпоративные нормы. Так, например, в основе изучения различных верований, религии и магии, — в их основе особые социальные нормы, в целом определяемые как религиозные.
Однако до настоящего времени нет научных подходов, позволяющих разграничить социальные нормы. Более того, активно проповедуются идеи о трансформации обычаев в правовые обычаи, а затем в правовые нормы [6]. Долгое время в России господствовала точка зрения, впервые высказанная историками В. П. Алексеевым и А. И. Першицем, о существовании мононормы, в последующем трансформирующейся в собственно правовые, моральные и другие регуляторы [2].
Общая социология, призванная постичь природу, сущность, движение, эволюцию социальной материи, включает в свой предмет комплекс юридических наук. Окружающий нас объективный мир включает природу, частью которой является и человек как физический объект. Составной частью окружающего мира являются, кроме природы, объекты, которые созданы или преобразованы человеком. В целом мир, в своем единстве материального и духовного, созданный человеком, определяется как культура. Ее классическое определение — «культура — это комплекс, включающий знания, верования, искусство, мораль, законы, обычаи, а также способности и навыки, усвоенные человеком, как членом общества», принадлежит Э. Тейлору (1832–1917), английскому этнографу, основателю антропологии [16]. Происхождение и эволюция культуры, как искусственно человеком созданной природы, — объект социальной или культурной антропологии.
Но кроме природы и материальной культуры объективной реальностью являются социальные отношения, которые именуются социальной материей. Познание социальной материи — удел всех обществоведческих наук. Разграничение обществоведческих наук осуществляется по их объекту. У юриспруденции есть собственный объект — право как совокупность правовых норм, зафиксированных в правовых актах, других источниках либо отраженных в иных формах, представляющих различные материальные объекты окружающего мира.
Указанную особенность правоведения особо отмечал в своем труде «Восхождение к праву» профессор С. С. Алексеев, который писал, что «… необходимо со всей определенностью сказать, что только при признании того, что предметом юридической науки, всех юридических знаний являются не сами по себе фактические отношения, не акты произвольного усмотрения власти, не требования той или иной идеологии, а твердая объективная реальность (выраженная пусть и в своеобразных рамках, в догме права, а при более широком подходе во всем комплексе правовых средств структурного порядка типа «жесткого организма»), только при признании этого возможна действительная, истинная наука, имеющая дело с реальными, объек- 10
тивированными фактами окружающей нас действительности. То есть такая же в принципе наука, как и иные отрасли знаний, да к тому же призванная практически и теоретически осваивать такие реальные факты действительности, которые в той или иной мере и виде опредмечивают и вводят в практическую жизнь людей разумные начала, духовные ценности» [1].
Однако на протяжении значительного времени социальная антропология изучала культурное многообразие и в системе советской науки не случайно именовалась как этнография или этнология. Необходимость перейти от фиксации, собирания, введения в научный оборот огромного количества научных артефактов, что является результатом работы многочисленных этнографов и этнологов, к анализу причин и закономерностей формирования этой культурного многообразия — задача социальной антропологии.
Безусловно, эти исследователи внесли значительный вклад в изучение обычного права коренных, малочисленных, исчезающих и других народов, их усилиями разработана концепция «правового плюрализма», сформулирована задача сохранения культурного разнообразия человечества1.
Но все же следует констатировать, что данное направление остается неким пасынком и культурной антропологии, и юриспруденции. Богатейший материал, который был создан усилиями не только юристов и историков права, а этнографами, путешественниками, колониальными властями и просто создавался в рамках государственных программ по сбору данных об обычном праве, во все времена служил верой и правдой множеству поколений юристов в деле научного постижения нашего сложного предмета. Но раз за разом феномен обычного права научными теориями выводился за рамки юриспруденции. Именно юристами установлено, что феномен обычного права должен быть постигнут представителями иных научных дисциплин. Такое положение и создало фактически ситуацию, когда его пристанищем объявили общую социологию, которая его вытесняет в культурную антропологию, а та, в свою очередь, понижает до уровня субдисциплины. Предопределяет ли такое положение решение феномена обычного права только в результате решения основных познавательных задач социальной антропологии?
Кардинально иная позиция была высказана еще в 2005 г. на страницах журнала «Государство и право». В статье А. И. Першица и Х. М. Думанова «Об уточнении понятия «обычное право» [5], в частности, было констатировано, что нерешенность проблемы понятия обычного права тормозит развитие всей сферы обществоведческой и обществознания в целом. Причем такой вывод был обращен к сообществу юристов, на что указывает публикация в авторитетном юридическом журнале.
Несмотря на такую высокую цену, обычное право все же не стало предметом юриспруденции. Обратимся тогда к теоретическим построениям социальной (культурной) антропологии и обнаружим там только теорию правового плюрализма, изложенную российской аудитории К. фон Бенда-Бекманн2, критику которой можно изложить в трех абзацах. Во-первых, идея социокультурного разнообразия и ее зависимость от природноклиматических условий была выдвинута Арнольдом Тойнби [17], однако ее основные выводы, считаем, были развиты академиком Г. Вернадским, который показал, что окружающая природа не остается в неизменном виде, более того — деятельность человека изменяет ее, что, в свою очередь, изменяет и культуру включенного в нее человека [3]. В силу указанного в настоящее время наивно говорить о консервации отдельно взятой нормативной культуры, необходимо искать пути развития и саморазвития любой, какой бы особенной и самодостаточной эта культура ни представлялась в собственных или сторонних глазах. Во-вторых, социология в целом, или социальная антропология, не дает нам рецептов, каким образом выделять в установленном многообразии культуры критерии разграничения норм обычного права с иными социальными регуляторами1. Примерное же ее определение не дает нам понимания того, как оно функционирует и не дает возможности на его основе устанавливать правовые связи индустриального и постиндустриального общества с инокультурным сообществом в целом и с каждым из них. И, наконец, в-третьих, — теория правого плюрализма не смогла, считаем, ответить и на непосредственные вопросы социальной антропологии и социологии в целом: в чем, собственно, разница между общинным человеком и государственным, или более общепринятое выражение (но отвергаемое из политкорректности) — «культурным» человеком и варваром. Говоря другими словами, какие закономерности разделили человеческие сообщества на два разных полюса — цивилизации и все иное?
Вернемся к предмету общей теории права и государства. Важнейшим аргументом в пользу представлений о том, что антропология права есть часть общей теории права и государства, является ее онтологическое основание. Наши базисные знания о праве и государстве не содержат необходимых знаний о закономерностях происхождения права и государства [6]. И дело не только в догматизме заложенного, как принято определять, марксистской теорией методологических подходов, или в господстве позитивистских или трансцендентальных теорий в праве в виде «чистых учений о праве», а в недостатках самого традиционного для европейской науки пра-вопонимания, трактующего право в тесной взаимосвязи с государством. Невнимание, возможно и в силу инерции, к проблеме происхождения права и государства не может не вызывать глубокого сожаления. А при отсутствии научных разработок указанного направления теория права и государства обречена на бесплодные попытки порвать с классовой теорией, с одной стороны, а с другой — на не менее опасные попытки признания феномена права как явления, присущего всем без исключения сообществам.
Что же мешает юридической науке обратиться непосредственно к изучению происхождения права и государства? На наш взгляд, причина банальна и кроется в недостатках методологического арсенала самой юридической науки.
Предметом теории права и государства являются основные закономерности возникновения и эволюции права и государства. В общем предмете юриспруденции проблема происхождения права занимает особенное место. В соответствии с выводами К. Маркса и Ф. Энгельса, происхождение права объясняется тем, что появление государства, отражающего непримиримость классовых противоречий эксплуататоров и эксплуатируемых, приводит к формированию социальных норм, направленных на защиту интересов господствующего класса, обеспечиваемых силой государственного принуждения. Такие выводы классиков марксизма требуют серьезной переработки. Современные научные знания в этой сфере дополнены значительным арсеналом научных исследований, которые характеризуют право не только как феномен, предшествующий появлению государства, но и предопределяющий его появление [10]. Необходимость пересмотреть вопросы происхождения права, углубления содержания основополагающего в теории права и государства тезиса о взаимосвязи права и государства (по сути, основной вопрос теории на протяжении последних трех-четырех десятилетий) означает необходимость пересмотра и обновления методологических оснований теории права и юриспруденции в целом. Эти процессы вызваны более высоким уровнем познания такого сложного, многогранного объекта, как право, необходимость системного подхода и анализа во взаимодействии с другими отраслями знания.
Другими словами, вопросы происхождения права и государства требуют обособления в рамках общей теории права, и для этого имеются объективные и субъективные причины. Еще раз подчеркнем, что формирование такого направления в юриспруденции не есть дань научной моде, тем более не умозрительное расширение предмета юриспруденции. В ее основе необходимое и вызванное самой эволюцией юриспруденции, как социологического направления в правоведении. Другими словами, видение права как явления социального, предопределенного происхождением социального существа, коим является человек, диктует необходимость обновления методологических оснований общей теории права и государства. Одновременно с этим расширение методологического арсенала общей теории права и государства актуализирует задачу обособления в относительно самостоятельный предмет вопросов происхождения права и государства. Именно эти процессы нашли отражение в становлении и эволюции науки антропологии права.
Так, диалектическое единство процесса происхождения права и государства и процесса разложения родового строя никем не оспаривается. Однако можно ли познать закономерности этого процесса, судьбоносного для цивилизации и права, игнорируя закономерности самого родового строя? Думается, нет. Необходимость включения в теорию права и государства комплекса знаний, направленных на постижение общих и специфических закономерностей происхождения, эволюции родового строя, характеристика его форм и содержания, начала и финала его развития — все эти знания составляют необходимую составную часть процесса современного научного познания юристами своего предмета, что, в свою очередь, выдвигает задачу разработки собственного, специфического набора исследовательских приемов и средств, выходящих за рамки имеющихся в арсенале современной юриспруденции, расширения, в том числе заимствования, которое основано на глубокой переработке в соответствии с объектом юридической науки, понятий и категорий общей социологии, антропологии, истории, биологии, информатики и других наук с целью уточнения и конкретизации имеющихся в наличии знаний о процессе происхождения права и государства.
«Ни один из общенаучных принципов и подходов не имеет методологического значения вне предмета той науки, в которой он применяется или должен применяться, поскольку необходима еще его «переплавка», т. е. приспособление, конкретизация, уточнение в соответствии с объективной логикой развития того самого объекта, который познается специальной научной дисциплиной. Отсюда с неизбежностью вытекает вывод о том, что любой общенаучный принцип и подход лишены методологической значимости до тех пор, пока они не приспособлены к логике познаваемого объекта» [7]. Именно по этой причине, с нашей точки зрения, не могут быть антропологические или социологические теории автоматически, вне той самой «переплавки», т. е. приспособления и конкретизации, усвоены юриспруденцией.
Далее, «общая теория права включает ряд направлений, которые следует подразделить на основные и неосновные. Неосновные, или имманентно не присущие предмету данной науки, то они более подвижны, по мере созревания могут выйти из состава данной науки и приобрести самостоятельное существование, составить самостоятельные отрасли правового знания», — писал в своей знаменитой монографии «Методология права» Д. А. Керимов [7].
Однако процессы углубления предметного поля и расширения методологического арсенала объективируют необходимость уточнения предмета антропологии права как составной части теории права и государства и одновременно с этим выделения этой части в самостоятельную научную дисциплину.
Заметим, что относительная самостоятельность теории происхождения права и государства в предмете общей теории права и государства доказана 70летним успешным развитием советской правовой теории, которая объявлена догматической в силу отказа от обновления постулатов марксизма в этом вопросе. Однако отказ от марксизма, главным образом выразившийся в формальном отказе от идеи классового происхождения права и государства, не повлек закономерного в таком случае пересмотра догмы права, в связи с чем можно отметить явную рассогласованность системных связей в теории права между ее социологическим обоснованием и действующей догмой права.
В силу наблюдаемых процессов последовательность самостоятельного развития первоначально одной темы в составе общей теории права и государства «Происхождение государства и права»; в дальнейшем раздела — «Теории происхождения права и государства», и далее теории происхождения права и государства, как феномена предопределенного происхождением человека как социального существа, обусловливает аргументированную выше необходимость институализации части общей теории права и государства.
«Правовая система, как и иные сложные социальные феномены, имеет в своем составе разнокачественные компоненты, различные подсистемы и многогранные в структурном и функциональном отношении образования. В зависимости от того, какие из этих компонентов являются объектами изучения, и составляется, соответственно, предмет каждой отрасли общественного знания.
Из сказанного вытекает бесплодность попыток провести абсолютную разграничительную линию между предметами общественных и, в частности, юридических наук, поскольку сами общественные и правовые явления органически между собой связаны, взаимодействуют и взаимопроникают в ходе своего развития. Тем более невозможно провести такую линию между предметами юридических наук, изучающими один и тот же объект — право. Однако это утверждение не означает, будто исключается возможность определения специфического предмета той или иной науки.
Отграничение предмета одной науки от другой должно идти не только по линии расчленения объектов исследования, но и по аспектам, уровням, целям исследования в случаях совпадения их объектов. Например, природа, общество, человек, право, государство и т.д. являются объектами исследования множества наук, хотя уровень, аспект или цель исследования в каждой науке особые, характерные для предмета именно данной науки» [7].
Таким образом, в настоящее время проблематика происхождения права и государства значительно расширилась, и ее дальнейшее развитие искусственно сдерживается нежеланием юристов раздвинуть предметное поле теории права и государства.
Так, требует разрешения давно назревшая проблема возвращения в лоно юридической науки феномена обычного права. Игнорирование юридической наукой вопросов о сущности и природе обычного права фактически сместило эту сферу знаний на периферию юриспруденции, на откуп этнографам и этнологам, что, на наш взгляд, способствовало отмеченной выше параллельности существования двух направлений в антропологии права. С нашей точки зрения, такое положение явилось результатом не столько догмата классовой теории права, видевшей обычное право предтечей собственно права, но, главным образом, отсутствием исследований в сфере разграничений обычного права и собственно обычая .
Также следует отметить, что окончательный водораздел не осуществлен и в сфере разграничения начальных форм государства и потестарных образований. Полагаем, что данный вопрос не может быть оторван от проблемы происхождения права, в связи с чем исследовательское поле антропологии права закономерно включает сферу научных знаний, традиционно отданных таким наукам, как политология, история, общая социология и социальная антропология.
В связи с изложенным отметим и еще одну важную причину, актуализирующую антропологию права. Глобализация значительно расширила сферу действия права, включив в общественные связи народы, племена, общины, людей, чей статус и опыт социальных связей, возможно, был далек от практики правовых и внеправовых отношений в мире. Все это актуализирует не только саму проблему выработки всеобщих принципов социального равноправия, правовых начал в отношениях между людьми, независимо от их материального, культурного и иного багажа. Права человека стали всеобщей ценностью и прерогативой не только государства и цивилизаций. Поэтому антропология права, как универсалий, отражающий эту особенность современного права, автоматически и бесповоротно включается в процедуру исследования и изучения культурного многообразия, как в сферу формального равенства и всеобщности прав человека.
Перед тем как обозначить содержательный состав антропологии права, необходимо определиться с вопросом о методологических основаниях антропологии права. Прежде всего необходимо обратить внимание на тот факт, что антропология права использует весь методологический арсенал общей теории права и государства и направлена на выявление, уточнение, конкретизацию закономерностей правовой действительности, совершенствование отражающих ее теоретических построений. Только исследуя такую объективную реальность, как совокупность правовых норм, выявляя их внутреннюю логику, сущность, форму, содержание, их особенности и специфические закономерности развития, можно достичь методологического совершенства, которое способно конкретизировать процессы становления права, юридизации быта, и через это открыть тайны явления человека как социального существа.
Ценность антропологии права в том, что она, как составная часть теории права и государства, обогащает, главным образом, отраслевые юридические науки, через которые влияет на общественную практику. В этом ее значение для общей социологии и культурной антропологии и в конечном итоге служит обогащению наших знаний о человеке, его природе и месте в меняющемся мире.
Продолжая эту мысль, подчеркнем, что основными методами антропологии права являются, кроме философских и общенаучных, методы толкования права и сравнительного правоведения. В соответствии с новым подходом к вопросам происхождения права существенно изменяется структура и объектный состав юриспруденции, включая в сферу юридического анализа и нормы обычного права. Повторимся, что такой подход способен разрешить и основные противоречия между первым и вторым направлениями в антропологии права. В советской юриспруденции нормы обычного права не рассматривались как собственно объекты правового анализа. Данная особенность характерна и для западной юриспруденции. Не случайно в Западной Европе правовой плюрализм ставит задачу отбора и выявления в общей структуре социальных правил норм права.
Что касается определения права, положенного в основу нашего юридико-антропологического дискурса, то философское обоснование права, как формального равенства, всеобщей и необходимой формы свободы в общественных отношениях, всеобщей справедливости, разработанной В. С. Нерсе-сянцем, позволяет охватить все богатство современной теории права и государства и при этом не ограничивает, не ставит искусственных заслонов на пути познания права во всей широте, глубине и масштабе социологического направления в теории права.
Более важным в аспекте методологического основания антропологии права считаем дать определение понятию «обычное право», поскольку данная категория представляет собой ключевой момент и основу антропологи- ческого подхода в праве. Существенным моментом в познании права считаем точку зрения, в которой обычное право, совокупность выработанных общественной практикой правил поведения людей, выраженных во взаимных правах и обязанностях, обеспеченных социальным или государственным принуждением, регулирующих имущественные и другие, тесно связанные с ними отношения между равноправными субъектами права, который наряду с законом, являющимся источником публичного права, формирует право в единстве частного и публичного права. Обычное право формируется общественной практикой, выражает статическую функцию права [18].
Пожалуй, еще более трудной задачей для юриста является дать определение понятию «человек», чтобы в этом определении выразить концептуальное ядро метакатегории, задать вектор научного поиска. В указанных целях поясним, что человек в нашем исследовании понимается как существо социальное, т. е. в своем поведении ориентирующееся на социальные нормы, но не на инстинкты. Социальные нормы формируются социальной группой, форма и эволюция которой определяют основные характеристики, цели и потребности человека как социального существа.
Структура предлагаемого курса антропологии права должна, на наш взгляд, включать следующие основополагающие темы.
-
1. Начальные формы социальной нормативности — табу, первобытная мораль и нравственность, обычай, обычное право, религиозные нормы. Генезис закона. Проблема мононормы. Традиционное право.
-
2. Начальные формы социальной общности — первобытное общество, община, родовая община, дуальная родовая община, фратрия, племя, этнос, народ, нация.
-
3. Неолитическая революция — переход от присваивающей экономики к производящей, формы неолитической революции. Генезис частной собственности, индивидуальной, коллективной.
-
4. Происхождение и эволюция брака и семьи, моногамная, групповая, пунуальная, экзогамия, эндогамия, инцест.
-
5. Генезис полисной культуры, территориальная организация политической власти. Вождества. Ранние формы государства.
-
6. Генезис права. Талион, кровная месть, композиция, традиционное право. Начальные формы судопроизводства.
-
7. Цивилизации и иные миры. Месторазвитие современных цивилизаций. Скотоводы, земледельцы, кочевники, ремесленники.
-
8. Свобода и равенство. Происхождение и эволюция зависимых положений. Эмансипация в истории права.
-
9. Война и мир.
-
10. Рождение демократии, формы демократии, понятие «восточной деспотии».
Список литературы Предмет и метод антропологии права
- Алексеев С. С. Восхождение к праву. М., 2000. 748 с.
- Венгеров А. Б. Теория государства и права: учебник для юрид. вузов. 8-е изд. М., 2011. С. 70-71.
- Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. М.: Наука, 1989. 240 с.
- Годинер Э. С. Политическая антропология о происхождении государства // Этнологическая наука за рубежом: проблемы, поиски, решения. М.: Наука, 1991. С. 51.
- Думанов Х. М., Першиц А. И. К уточнению понятия "обычное право" // Государство и право. 2005. № 3. С. 77.