Предмет психологической науки и проблема объяснения в психологии. Статья первая: трудности объяснения
Автор: Мазилов Владимир Александрович
Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday
Рубрика: Психология
Статья в выпуске: 6, 2020 года.
Бесплатный доступ
Отмечается, что психологическая наука стоит перед лицом больших вызовов, связанных как с изменениями в реальной психологии человека, так и с глобальными проблемами. В этом контексте поставлена проблема трансформации психологической науки, пересмотра ее предмета и методологии. Причины возникновения данной проблемы и подходы к ее решению рассматриваются на примере объяснения как важнейшей функции науки. На материале концепции объяснения Ж. Пиаже показано, что современная психология во многом все еще не вышла за пределы новоевропейской рационалистической традиции одномерного детерминизма, которая влечет за собой узкую трактовку предмета психологической науки и понимание объяснения исключительно как причинно-следственного, что неизбежно ведет к редукции психического к непсихическому. Сформулирован замысел усвоения в психологии достижений неклассической науки.
Методология, предмет психологии, объяснение, причинно-следственное объяснение, виды объяснения, редукционизм, неклассическая наука
Короткий адрес: https://sciup.org/148321405
IDR: 148321405 | УДК: 159.9.01+001 | DOI: 10.25586/RNU.HET.20.06.P.69
Текст научной статьи Предмет психологической науки и проблема объяснения в психологии. Статья первая: трудности объяснения
века. Впервые в истории перед человечеством встал императив переустройства внутреннего мира и мотивационной сферы людей ис-

Борис Герасимович Ананьев (1907–1972)
ходя из интересов сохранения жизни на нашей планете. Очевидно, что такая трансформация человеческой составляющей исторического процесса требует реального психологического обеспечения. А значит, назревший антропологический переход требует иной, чем ныне существующая, психологической науки.
При всех своих успехах психология оказалась в числе аутсайдеров научно-технологической революции современности. И большинство ученых-психологов отдает отчет в том, психологические исследования и практика мозаичны, разобщены, сосредоточены не на кардинальных вопросах, а на частностях. На наш взгляд, преодоление этого затянувшегося состояния, сковывающего творческие и прикладные возможности психологической науки, требует углубленной методологической рефлексии, включая переосмысление ее основополагающих функций и предмета.
В рассматриваемой связи уместно вспомнить, что в философии и методологии науки в зависимости от угла зрения исследователей выделяются различные функции научной мысли. Чаще всего среди них называют познавательную, мировоззренческую, образовательную и практически-преобразовательную. При более тонком анализе обращают внимание и на такие функции науки, как объяснение и интерпретация, которые, как очевидно, являются существенными аспектами и/или методами познавательной и образовательной деятельности.
Основополагающие функции науки в зависимости от области знания реализуются различным образом. Скажем, в математике доминирует функция объяснения, которая при решении конструктивных задач фактически совпадает с функцией обоснования.
Совсем не так обстоит дело во многих гуманитарных науках. Скажем, в современной отечественной психологической литературе полноценные объяснения встречаются крайне редко. На защитах диссертаций часто можно услышать пожелания усилить «интерпретацию». Это означает, что диссертанты избегают объяснений и используют – в лучшем случае – только интерпретации. Общепринятая теория объяснения в психологии, которая бы удовлетворяла многочисленных исследователей, к сожалению, отсутствует. А если нет объяснения, то нет и понимания: страдает познавательная функция.
Подтверждение сказанному мы найдем в классической работе Б.Г. Ананьева, где дается классификация методов психологического исследования. В этой работе выделены следующие группы методов: 1) организационные (сравнительный, лонгитюдинальный, комплексный); 2) эмпирические (обсервационные, экспериментальные, психодиагностические, праксиметрические и биографические); 3) обработки дан- ных (количественные и качественные методы анализа); 4) интерпретационные методы (различные варианты генетического и структурного методов) (см.: [1]). Как можно увидеть, в этой классификации методов психологического исследования, а лучшей пока не предложено, объяснение не предусмотрено. В свою очередь, это можно интерпретировать как указание на явное неблагополучие с объяснением.
В этом пункте нашего анализа обратимся к существу понятия «объяснение». Понятие это употребляется в самых различных смыслах и в повседневной жизни, и в научном языке. Среди этих смыслов можно выделить два основных, которые принимались в качестве отправных в разработке тех или иных концепций объяснения в эпистемологии и философии науки. Первый смысл связан с представлением о том, что для объяснения некоторого явления необходимо выявить некоторую скрытую за ним «сущность», «внутреннюю природу». Такого рода трактовки объяснения были характерны для метафизики, натурфилософии, а также ранних стадий развития науки. По мере развития научного познания такое понимание было вытеснено иным, в котором объяснение предполагает включение явления в структуру некоторых регулярностей, законов, в контекст целостной теории. Эти две общие перспективы могут пересекаться, поскольку возможен такой взгляд на теорию, в котором ее функция видится в раскрытии сущности определенного круга явлений. Однако подобное «эссенциалистское» понимание теории находит ныне все меньше сторонников [18, с. 7].
Интерпретация в широком смысле (лат. interpretatio) — «разъяснение, истолкование» – процедура, которая должна быть направлена на достижение лучшего понимания. Уместно вспомнить, что интерпретация была на протяжении многих веков основным методом в философской психологии [8, 21]. Это гибкий и достаточно универ- сальный психологический метод с большими традициями. Основные этапы развития интерпретации в философской психологии прослежены в книге М.С. Роговина [21]. Как отмечает В.С. Швырев, в «гуманитарном знании, в науках о культуре понятие “интерпретация” употребляется в значении, близком к понятию понимания, в котором, начиная с Дильтея, стремятся выразить специфику гуманитарного и культурологического познания, направленного на постижение (расшифровку, декодирование) смысла, воплощенного в различных текстах и вообще артефактах культуры. В философской герменевтике (Э. Бетти, X. Гадамер) проблематика интерпретации выходит за рамки постижения смыслов текстов, оказываясь связанной с познанием бытия человека в мире» [28, с. 134].
Для того чтобы завершить сопоставление объяснения и интерпретации, напомним, что сама наука возникла как попытка античных мыслителей понять и объяснить мир, в котором жил человек. Объяснение уже тогда было значимой ценностью, оно было первично, а интерпретация вторична. Достаточно указать на Демокрита (около 460 – около 370 годов до н.э.), утверждавшего, что «ни одна вещь не возникает беспричинно» [17, с. 70]. Упоминается также, будто бы великий грек говорил, «что он предпочел бы найти одно причинное объяснение, нежели приобрести себе персидский престол» [17, с. 70].
Значительно дальше Демокрита в рассмотрении вопроса причинности пошел Аристотель, который в «Метафизике» [2] сформулировал учение о сущности и четырех причинах. Как известно, Аристотель выделяет четыре вида причин: материальную, по началу движения, по концу движения, по форме. Вряд ли стоит специально акцентировать, что к одному и тому же явлению или вещи приложимы различные причины: иными словами, одни и те же вещи могут объясняться по-разному, в зависимости

Михаил Семенович Роговин (1921–1993)
от используемых видов причинности. Для психологии была наиболее значима, согласно Аристотелю, четвертая, поскольку именно так Великий Стагирит объяснял соотношение души и тела.
На этом античная мысль не остановилась. Клавдий Гален, знаменитый врач и выдающийся философ и логик, добавил к четырем аристотелевским пятую причину: «то, посредством чего», то есть инструментальную. Заметим, что это практически идеальное обоснование для психологии способностей.
Собственно говоря, если вспомнить знаменитый «закон трех стадий» Огюста Конта [6], то можно кратко описать всю историю человеческого познания через изменение способа объяснения. Напомним, что, согласно Конту, в развитии любой науки могут быть выделены теологическая (мифологическая), метафизическая и научная стадии. Легко увидеть, что на первой стадии объяснение происходит за счет привлечения сверхъестественных сил, на второй – за счет отвлеченных сущностей, на третьей – за счет научных законов.
Настоящий триумф причинноследственного объяснения наблюдается в Новое время. Дело в том, что в эту эпоху происходит бурное
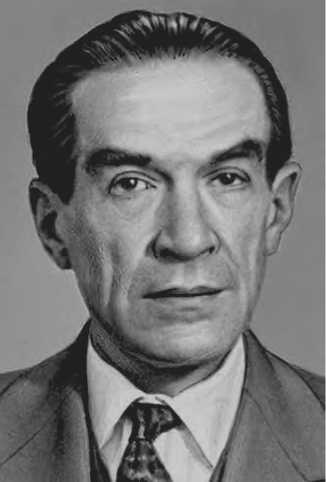
Алексей Николаевич Леонтьев (1903–1979)
развитие естественных наук, продуктивно используется именно этот вид объяснения. Формулируются законы, которые выражаются языком математических формул. Успехи естествознания подтверждают продуктивность причинно-следственного объяснения.
Эта линия в трактовке объяснения была воспринята в философии марксизма-ленинизма, которая с середины 1920-х годов выступает в качестве методологической основы советской науки, включая и психологию. Однако философские положения марксистско-ленинской философии в сочетании с причинно-следственной трактовкой причинности неизбежно ведут к редукции психического к непсихическому, поскольку согласно материалистической философии существует лишь материя, психика рассматривается как отражение, то есть является свойством материальной системы. При этом отражение понимается как процесс взаимодействия материальных систем, при котором отражающая система в специфической форме воспроизводит некоторые свойства отражаемой системы. А это означает, что психическому в марксистско-ленинской философии отказано в самостоятельном существовании: «сферой бытия» или «уровнем» психика, согласно идеологам, не является.
Как писал один из идеологов марксизма-ленинизма П.Н. Федосеев, рассмотрение проблем природы психического «упирается в общефилософскую трактовку единства мира и качественного своеобразия различных уровней, проявлений, сфер этого в целом единого материального мира. Различные уровни, сферы бытия подчиняются всеобщим закономерностям, выражающим единство мира, и вместе с тем на каждом таком качественно своеобразном уровне бытия действуют специфические закономерности. Таким образом, между разными сферами, уровнями бытия есть сходство, преемственность, связь и вместе с тем есть качественное своеобразие, различие» [23, с. 17–18].
Своего рода дополнением к этим положениям, оскопляющим психологическую науку, явилась методологическая ориентация психологии на анализ «по единицам», на выделение «клеточек», что позволило вместо психики как целого в качестве предмета психологии рассматривать ее «заменители», то есть те или иные элементарные образования (см.: [16]). Не вдаваясь далее в детали, скажем только, что если мы не представляем себе природы целого, выделение адекватных единиц кажется проектом весьма сомнительным. Если мы к такому частному предмету пытаемся применить причинно-следственное объяснение, редукция неизбежна: объяснение уходит в сферу биологии или социологии. Из сказанного понятно, что в советской психологии никакой теории объяснения быть просто не могло: объяснением «занималась» диалектика.
Возвращение проблемы объяснения в советскую психологию представляется историческим курьезом, причем не санкционированным идеологией. Произошло это неожиданно и непреднамеренно, скорее по стечению обстоятельств.
В преддверии XVIII Международного психологического конгресса, проходившего в августе 1966 года в Москве, руководители отечественной психологии, воспользовавшись сложившимися благоприятными обстоятельствами, предприняли шаги, направленные на стимулирование развития отечественной психологии. В СССР не оказалось профессиональных психологов: выяснилось, что их практически нигде не готовят, существуют только отделения психологии при философских факультетах, где обучалось совсем небольшое число студентов. Поэтому по ходатайству А.Н. Леонтьева были открыты факультеты психологии в Московском и Ленинградском университетах. Оказалось, что нет современных учебников по психологии, в первую очередь по экспериментальной психологии – так было получено разрешение на перевод на русский язык (стараниями А.Н. Леонтьева) только что вышедшего в дружественной тогда Франции девятитомного руководства по экспериментальной психологии [34], первые два тома которого увидели свет в издательстве «Прогресс» в 1966 году.
Именно в этом издании содержалась и концепция Жана Пиаже [33, 20], которая в нашей психологии пользуется, пожалуй, наибольшей популярностью среди всех имеющихся теорий объяснения. В этой классической работе приводится широко известная классификация форм или типов объяснения. Все эти формы, кроме одной, предполагают исключительно причинноследственное объяснение. Как полагает Ж. Пиаже, причинно-следственное объяснение неприменимо к сознанию, поэтому там используются «заменители» причинного объяснения – логические импликации: «понятие причинности не применимо к сознанию. Это понятие применимо, разумеется, к поведению и даже деятельности; отсюда и разные типы причинного объяснения, которые мы различаем. Но оно не “подведомственно”
сфере сознания как такового, ибо одно состояние сознания не является причиной другого состояния сознания, но вызывает его согласно другим категориям» [20, с. 190].
Ж. Пиаже отмечает, что «существуют два основных типа или по крайней мере два полюса в объяснительных моделях в зависимости от того, направлены они на: а) сведение сложного к более простому или психологического к внепсихо-логическому, или б) на конструктивизм, в большей или меньшей степени остающийся внутри границ “поведения”. Так как модели редукционистского типа в свою очередь могут сохранять преимущественно психологическую окраску или, напротив, стремиться к сведению психического к фактам, выходящим за его пределы, мы фактически приходим к трем крупным категориям (А–В), причем каждая из двух последних предполагает три разновидности» объяснений [20, с.167–168]. Приведем эту классификацию типов объяснений Пиаже.
-
А) Психологический редукционизм, который состоит в поисках объяснения определенного числа различных реакций или действий посредством сведения их к одному и тому же причинному принципу, остающемуся неизменным в ходе преобразований.
Б) Формы редукционизма, объясняющие реакции или действия ссылкой на факты, выходящие за пределы психологии. Отсюда три разновидности:
Б1) Социологические объяснения в психологии, или вообще психосоциальные объяснения, пытающиеся объяснять индивидуальные реакции с точки зрения взаимодействий между индивидами или структур социальных групп различных уровней;
Б2) Физикалистские объяснения, которые, исходя из изоморфизма психических и органических структур соответственно моделям поля, основывают в конечном счете эти последние на физических соображениях;
Б3) Органистские объяснения вообще, сводящие психологическое к физиологическому.
-
В) «Конструктивистские» объяснения, которые, предусматривая, конечно, различного рода сведения (так как это по крайней мере один из аспектов всякого объяснения), делают основной акцент на процессах конструкции:
-
В1) Модели типа «теории поведения», которые обладают тем общим признаком, что координируют различные законы обучения в системы, сосредоточенные на приобретении новых форм поведения;
-
В2) Модели чисто генетического типа, при помощи которых исследователи ищут в развитии некоторые конструктивные механизмы, способные объяснить появление нового опыта, не прибегая только к приобретенному опыту;
-
В3) Абстрактные модели, которые не предполагают выбора между различными возможными субстратами, чтобы лучше выявить в самой общей форме, соответствующей психологическим требований, механизм самих конструкций.
Критика этой классификации была предпринята М.С. Роговиным. «Рассматривая предлагаемые Ж. Пиаже типы объяснений, – писал он, – можно констатировать, что основные лежащие в основании деления понятия “сведения” и “конструирования” носят у него достаточно неопределенный и двусмысленный характер. В них совершенно не разведены объективный и субъективный моменты. “Сведение” выступает у Пиаже фактически и как субъективное, возникающее у психолога в ходе исследования понимание, и как объективный процесс перестройки знания при сопоставлении имеющихся психологических данных с тем или иным материальным субстратом. То же относится и к “конструированию” – это и субъективный процесс, включающий такие компоненты, как комбинирование, оперирование образами и знаками, абстрагирование,
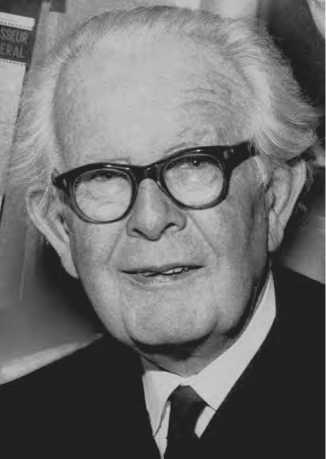
Жан Пиаже (1896–1980)
анализ и синтез, обобщение, и в то же время этим термином обозначается и объективное логическое содержание» [22, с. 57–62].
«Несколько безразличное отношение Пиаже к строгому определению основания производимого им деления видов объяснения связано и с тем, что все равно каждый из них является принципиально неполным в том смысле, что, по его мнению, всегда должно существовать отношение дополнительности между моделями сведения и конструктивными абстрактными моделями. И в ходе своего изложения Пиаже действительно все время дополняет один вид объяснения другим. Поэтому, установив основные признаки объяснения (логическую необходимость отношений и реальность тех причинных связей, на которые она накладывается), Пиаже счел возможным основываться в дальнейшей разработке классификации всего лишь на критериях, которые показались ему наиболее удобными» [22, с. 62– 63]. М.С. Роговин отмечает, что «в классификации Пиаже обращает на себя внимание отсутствие функционального объяснения, безусловно играющего важнейшую роль в психологии; его не то, чтобы совсем нет, но этот вид объяснения
■ DISCOURS DE LA MÉTHODE как бы растворяется в других, не совсем с ним совпадающих» [22, с. 63]. По мнению Роговина, «в результате произведенной им классификации видов объяснения Пиаже все же не удается выйти за извечные рамки психофизиологического параллелизма, параллелизма психических и нервных процессов, – проблемы, решение которой Пиаже мыслит в плане намечаемой им дополнительности, но реализацию которого он предоставляет будущему» [22, с. 63].
Но дело не только в этом. Сторонник интеллектуализма, ученик и последователь Э. Клапареда, Жан Пиаже за предмет психологии принимает сознание. Конечно, интеллект как система скоординированных операций связан с сознанием, так что его выбор понятен. Однако заметим, что сознание представляет собой не лучшую трактовку реального предмета психологической науки, ибо оно является собою только его частью. Разорвав сознание и поведение, определив сознание как содержание психологии и выведя его из сферы причинности, «отписав» поведение организму и в этой области сохранив причинность, Пиаже обрекает себя на следование психофизиологическому параллелизму. Как и большинство авторов, он считает необходимым «допустить существование двух различных рядов явлений, один из которых образован состояниями сознания, а другой – сопровождающими их нервными процессами (причем всякое состояние сознания соответствует такому процессу, а обратное было бы неверно). Связь между членами одного из рядов и членами другого ряда никогда не является причинной связью, а представляет собой их простое соответствие, или, как обычно говорят, “параллелизм”» [22, с. 188].
Пиаже указывает, что существуют различные разновидности решения проблемы соответствия. «Так, например, классический параллелизм был атомистическим и искал поэлементного соответствия (то есть соответствующего физиологического явления для каждого ощущения, каждой “ассоциации” и т.д.). Гештальттеория, напротив, говорит о принципе “изоморфизма”, признавая соответствие между целостными структурами» [22, с. 188].
Вслед за гештальтпсихологией Пиаже, постулируя изоморфизм, выбирает целостность. «Мы прежде всего должны предположить, – пишет он, – что главные трудности возникали из-за того, что недостаточно уточнено, каковы же те специфические понятия, которые применимы к одному только сознанию, и вместо них постоянно пользуются обычными понятиями, которые более или менее применимы к материальной причинности (физической или физиологической), но, вероятно, лишены всякого смысла в отношении “состояний” сознания, а также сознательных структур (понятия, ценности и т.д.)» [22, с. 189–190]. «Из семи перечисленных нами форм объяснения только абстрактные модели (В3) применимы к структурам сознания, именно потому, что они могут абстрагироваться от того, что мы называем реальным “субстратом”. Причинность же предполагает применение дедукции к подобному субстрату, и отличием субстрата как такового от самой дедукции является то, что он описывается в материальных терминах (даже когда речь идет о поведении и деятельности)» [22, с. 190]. Вывод Пиаже примечателен: «параллелизм между состояниями сознания и соответствующими физиологическими процессами означает изоморфизм между системами импликаций в широком смысле и системами, относящимися к причинности» [22, с. 191– 192]. Согласно Пиаже, «существует полный изоморфизм между системой сознательных операций и механической системой» [22, с. 192]. И, наконец, Пиаже заключает свой анализ следующим выводом: «если параллелизм между фактами сознания и физиологическими про- цессами зависит от изоморфизма между импликативными системами значений и материальными системами причинного порядка, то в таком случае очевидно, что этот параллелизм влечет за собой также не только дополнительность, но в конечном счете и обоснованную надежду на установление изоморфизма между органическими и логико-математическими схемами, используемыми в абстрактных моделях (курсив авт.)» [22, с. 193].
Теория объяснения, разработанная Ж. Пиаже, вызывает уважение своей логичностью и последовательностью. Но она имплицитно предполагает теоретико-методологическую позицию, которая редуцирует психику до сознания, а это последнее – до логико-математических схем. Следовательно, психика утрачивает онтологический статус, а психология лишается своего предмета. Она превращается в интерпретацию неких эпифеноменов, укорененных в процессах, обозначенных как психические, но не являющихся таковыми. А значит, становится невозможным познание и объяснение психического из него самого. Мы видим, что Жан Пиаже в своей теории сомкнулся с до боли знакомой нам марксистко-ленинской трактовкой психического как отражения.
Современная психологическая наука вряд ли присягнет на верность такому ограничению своих познавательных и практических возможностей. Она неизбежно будет стремиться в трудах своих лучших представителей выйти из этого гносеологического тупика, что, как мы знаем, и происходит в последние десятилетия. Но для этого необходима глубокая трансформация психологической науки, затрагивающая ее предмет, методологию, способ мышления и практическую деятельность ученых.
Творчество Жана Пиаже является одной из вершин классического новоевропейского рационализма. Оно продемонстрировало нам его богатейшее наследие и одновременно указало на пределы его возможностей. А эти пределы, блокирующие дальнейшее развитие психологического познания, ему ставит приверженность одномерному причинноследственному детерминизму.
Чтобы избавиться от этих оков, психология подобно квантовой механике и генетике призвана вступить в мир несравненно более сложных нелинейных связей и зависимостей, овладеть многомерными способами обоснова- ния, словом, расширить онтологию, освоить арсенал неклассической науки XXI века. О некоторых назревших предпосылках и движущих силах переворота в психологической науке речь пойдет в следующей статье.
Список литературы Предмет психологической науки и проблема объяснения в психологии. Статья первая: трудности объяснения
- Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания. М.: Институт практической психологии, Воронеж: МОДЭК, 1996. 386 с.
- Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1975. 550 с.
- Выготский Л.С. Мышление и речь. М., 1934. 303 с.
- Залевский Г.В. Объяснение и понимание против "циклопной" психологии // Методология и история психологии. 2008. Т. 3, вып. 1. С. 41-47.
- История психологии: период открытого кризиса / под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. М.: МГУ, 1992. 364 с.
- Конт О. Дух позитивной философии. СПб.: Изд. "Вестника Знания", 1910. С. 76.
- Лекторский В.А. Евгений Петрович Никитин - человек, философ // Никитин Е.П. Духовный мир: органичный космос или разбегающаяся вселенная? М.: Росспэн, 2004. С. 471-481.
- Мазилов В.А. Теория и метод в психологии. Ярославль: МАПН, 1998. 356 с.
- Мазилов В.А. Научная психология: проблема объяснения // Методология и история психологии. 2008. Т. 3, вып. 1. С. 58-73.
- Мазилов В.А. Методологические проблемы психологии: объяснение и редукционизм // Ярославский психологический вестник. Вып. 20. М.; Ярославль: Российское психологическое общество, 2007. С. 15-20.
- Мазилов В.А. Понимание. Объяснение. Творчество // Вокруг "Стен и мостов": размышления о методологии психологической науки: сб. статей / под ред. В.А. Мазилова. Ижевск: ERGO, 2016.С.10-45. URL: http://yspu.org/images/0/06/07_ВАМ_ПС.pdf (дата обращения: 10.04.2020).
- Мазилов В.А. Объяснение и понимание в научной психологии /// Ярославский психологический вестник. 2018. № 41. С. 29-37.
- Мазилов В.А. Разработка концепции объяснения в психологии // Ярославский педагогический вестник. 2018. № 4. С. 188-197.
- Мазилов В.А. Объяснение в психологии // Теоретичнi дослiдження у психологiї: монографiчна серiя. 2019. Т. VI. 175 с. URL: http: // theor-research.georgyball.com (дата обращения: 10.04.2020).
- Мазилов В.А. De anima: Предмет психологии и границы его постижения // Высшее образование сегодня. 2019. № 6. С. 60-70.
- Мазилов В.А. Предмет психологии: целостность и анализ "по единицам" // Высшее образование сегодня. 2020. № 2. С. 48-56.
- Материалисты Древней Греции. М.: Госполитиздат, 1955. 238 с
- Никитин Е.П. Объяснение - функция науки. М., 1970. 280 с.
- Объяснение в философии науки // Методология и история психологии. 2008. Т. 3. Вып. 1. С. 7-8.
- Пиаже Ж. Характер объяснения в психологии и психофизиологический параллелизм // Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология. Вып. 1, 2. М.: Прогресс, 1966. С. 157-194.
- Роговин М.С. Введение в психологию. М.: Высшая школа, 1969. 384 с.
- Роговин М.С. Психологическое исследование. Ярославль: ЯрГУ, 1979. 66 с.
- Федосеев П.Н. Проблема социального и биологического в философии и социологии // Биологическое и социальное в развитии человека. М.: Наука, 1977. С. 5-33.
- Фресс П. Экспериментальный метод // Экспериментальная психология / ред. П. Фресс, Ж. Пиаже. Вып. 1, 2. М.: Прогресс, 1966. С. 99-156.
- Шадриков В.Д. Способности и одаренность человека. М.: Институт психологии РАН, 2019. 274 с.
- Шадриков В.Д. Внутренний мир человека. М.: Логос, 2006. 386 с.
- Шадриков В.Д., Мазилов В.А. Общая психология: учеб. для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2015. 411 с.
- Швырев В.С. Интерпретация // Новая философская энциклопедия. Т. 2. М., 2010. С. 134-135.
- Юревич А.В. Объяснение в психологии // Психологический журнал. 2006. № 1. С. 97-106.
- Юревич А.В. Объяснение в психологии // Методология и история психологии. 2008. Т. 3, вып. 1. С. 74-87.
- Brown R. Explanation in social science. Chicago, 1963. VIII, 198 p.
- Jung K.G. Die Bedeutung von Konstitution und Vererbung fur die Psychologie // Ges. Werke. Bd. 8. 1967. S. 418-423.
- Piaget J. L'explication en psychologie et le parallélisme psychophysiologique // P. Fraisse, J. Piaget et M. Reuchlin. Traité de psychologie expérimentale. Vol. I, Histoire et méthode. Paris: Presses univ. de France, 1963. Рp. 121-152.
- Traité de psychologie expérimentale. Vol. I-IX. Paris: Presses univ. de France, 1963.


