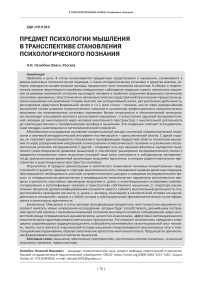Предмет психологии мышления в трансспективе становления психологического познания
Автор: Нелюбин Н.И.
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Психологические науки. Педагогическая психология
Статья в выпуске: 4 (66), 2023 года.
Бесплатный доступ
Проблема и цель. В статье анализируются предметные представления о мышлении, сложившиеся в рамках различных психологических подходов, а также методологические установки и средства анализа, которые определяли концептуальные границы предметного поля психологии мышления. В обзоре и теоретическом анализе акцентируются проблема инерционного соблюдения традиции строить психологию мышления за рамками жизненной онтологии мыслящего человека и проблема сохранения формально-логических, ситуативно-временных, гипостатических и неомеханистических представлений при описании процессов мышления (мышление как реактивное течение мыслей, как ассоциативный синтез, как умственная деятельность, регулируемая средствами формальной логики и т.п.). Цель статьи - показать, как по мере разворачивания внутренней логики развития психологического познания и усложнения профессионально-психологического мышления эти познавательные установки утрачивают былую актуальность и объяснительный потенциал; как происходит расширение контекста рассмотрения мышления - с искусственно заданной экспериментальной ситуации до многомерного мира человека (ментального пространства), с мыслительной деятельности до самоосуществления и самоорганизации человека в мышлении. Эти тенденции отвечают исследовательским трендам, наметившимся в постнеклассической психологии. Методологию исследования составляют концептуальный аппарат системной антропологической психологии и ключевой методологический инструмент постнеклассики - трансспективный анализ. С одной стороны, он позволяет реконструировать становление и трансформацию предметной области психологии мышления по мере разворачивания внутренней логики развития психологического познания и усложнения гносеологических установок исследователей. С другой - открывает путь для изучения феномена «длящегося мышления» (экзистенциальной динамики мышления) и способствует расширению исследовательского поиска с предметно-ситуативного плана мышления (который чаще всего учитывается в лабораторном эксперименте) до пространственно-временной организации мышления (хронотопа, в котором сходятся ментальное пространство и экзистенциальное пространство человека).
Мышление, ментальное пространство, постнеклассическая психология, психология мышления, предмет, трансспектива
Короткий адрес: https://sciup.org/144162892
IDR: 144162892 | УДК: 159.9.019
Текст научной статьи Предмет психологии мышления в трансспективе становления психологического познания
Нелюбин Николай Иванович – кандидат психологических наук, доцент кафедры практической психологии, Омский государственный педагогический университет; ORCID: ; Scopus Author ID: 57216981850; е-mail:
П остановка проблемы. Предметное поле современной психологии мышления представляет собой достаточно пеструю и концептуально нескоординированную картину. Круг психических феноменов, процессов и образований, входящих в него, очень широк и разнообразен. Это как отдельные мыслительные операции и продукты мыслительной деятельности, так и более сложные системные образования, в которых воплощается единство мотивационно-смыслового и структурносодержательного планов мышления, единство аффекта и интеллекта, познающего и познаваемого. И.А. Васильев при анализе данной предметной области отметил, что: «Актуальное состояние дел в области “психологии мышления” характеризуется нарастающей дифференциацией и дезинтеграцией психологических знаний в этой области познания…» [Васильев, 2018, с. 39]. Отдельных экспериментальных исследований, выполняемых в русле когнитивной психологии, проведено немало, но их результаты не складываются в целостную и непротиворечивую картину о мышлении. Во многом это объясняется тем, что они проводятся в рамках достаточно локальных мини-парадигм. Отсюда психология мышления все больше напоминает «лоскутное одеяло», являющееся метафорой общего положения дел в современной психологии [Новые..., 2019, с. 7]. Существует множество теоретических концепций и моделей, позволяющих описывать мыслительный акт, но отсутствует целостная теория мышления, которая была бы органично вписана в психологию человеческого бытия. С другой стороны, современная психология мышления – это именно та область познания, в которой весьма отчетливо обнаруживается «единство процессов перерождения научной ткани в психологии, которое и обусловливает волю всех исследователей» [Выготский, 1982а, с. 325].
Наиболее явственно эта тенденция проявляется в трансформации предметного поля психологии мышления, в концептуальные границы которого включаются конструкты, анализ их требует применения особого, постнеклассического взгляда. Например, это «напряженные возмож- ности» мышления, «сверхсложное мышление» (В.Е. Клочко), «свободная инициация мышления» «эмоционально-установочные комплексы», регулирующие мыслительную активность (В.Е. Клоч-ко, О.М. Краснорядцева), «поступающее мышление» (М.М. Бахтин, В.В. Бибихин, В.П. Зинченко), «мышление как саморазвитие» (Г.П. Щедровицкий), «эмоционально-волевое, интонирующее», «участное» мышление, «действенноживое мышление-переживание» (М.М. Бахтин, Н.О. Лосский, С.Л. Франк), «эмоциональное мышление» (Л.С. Выготский, О.К. Тихомиров, А.А. Ухтомский), «нарративное мышление» (Л. Бич, Дж. Брунер, Т. Сарбин), «поэтическое мышление» (А.А. Потебня, Н.И. Нелюбин). Эти конструкты являются весьма неудобными и даже аномальными переменными для исследователей, придерживающихся классических представлений о мышлении, но вместе с тем они свидетельствуют о выходе проблемного поля психологии мышления за рамки предметного поля в его классическом понимании [Клочко, 2008]. Необходимость включения этих синтетических конструктов в предметное поле данного раздела психологии имеет свою предысторию и внутреннюю логику, требующую должного историографического и методологического анализа. На каждом новом витке развития психологического познания не только содержательные, но и динамические аспекты мышления оказывались в центре научного дискурса. Мыслительная динамика рассматривалась исследователями то в отрыве от жизненной динамики человека, то как параллельный процесс, то как выражение одной из сторон последней. По мере возрастания уровня системности профессиональнопсихологического мышления ученых менялись и предметные представления о самом мышлении. Оно выводилось за рамки замкнутого психического аппарата и включалось в орбиту жизненных отношений, жизненного мира человека. Онтологическая формула «мыслительный акт – экспериментальная ситуация» постепенно сменялась формулой «мыслящий человек – жизненный мир». Происходило это и в силу усложнения представлений ученых о предмете психологии:
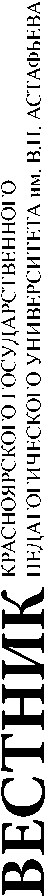
«…тенденция в развитии исследований мышления в психологии состоит в том, что вместе со становлением предмета психологии, изменением уровней системного подхода в психологии происходит и смена представлений о мышлении в психологии» [Васильев, 2018, с. 40].
Разработка новых объяснительных принципов и концепций в этой предметной области требует реконструкции, с одной стороны, самих предметных представлений о мышлении, характерных для исследователей на разных этапах развития психологического познания. С другой – необходимо реконструировать эпистемологические установки и типы рациональности ученых, которые в конечном счете и переопределяли характер постановки и решения ключевых вопросов о мышлении. К.А. Славская отмечала, что сквозными дискуссиями в становящейся психологии мышления были споры между эмпириками и рационалистами, споры о репродуктивном либо порождающем характере мыслительной активности [Славская, 1968]. Сам предмет психологии мышления, с ее точки зрения, в течение длительного времени определялся в контексте этих дискуссий: «…на протяжении истории психологии происходит неоднократная смена предмета исследования: ассоцианизм рассматривает мышление как связь чувственных элементов, вюрцбургская школа, полемизируя с ними, развивает тезис о безобразном, абстрактном характере мышления, гештальтпсихология снова приходит к установлению общности мышления с восприятием» [Там же, с. 31].
Г.П. Щедровицкий подчеркивал, что в самом мышлении о мышлении недостаточно актуализированы гносеологические и эпистемологические аспекты проблемы. Он отмечал, что все аргументы и ходы рассуждений отдельных исследователей «…целиком и полностью определяются их собственными представлениями о мышлении, имеют, следовательно, не объективный, а предметный характер и потому должны рассматриваться не столько в качестве гипотез, требующих эмпирического и теоретического подтверждения, сколько в качестве методологических концепций и программ, нуждающихся в реализации через соответствующую организацию исследований и всей науки о мышлении» [Щедровицкий, 2005, с. 227]. Нарастающий интерес к междисциплинарному дискурсу, антропологии и построению соответствующих исследовательских программ рано или поздно даст свои результаты в виде комплексной теории мышления целостно понятого человека, в которой будут найдены недостающие связи между разными формами и регистрами протекания мыслительных процессов. Но эти результаты будут следствиями основательной дескриптивной рефлексии и реконструкции внутренней логики становления и развития концептосферы психологии мышления. При этом необходимо учитывать как ее исторические истоки, так и перспективу ближайшего развития.
Г.П. Щедровицкий предлагал исследователям сосредоточиться на методологическом контексте постановки и решения проблемы мышления. Он обратил внимание современников на неустранимый факт зависимости наших знаний и представлений о реальном мышлении «от характера используемых нами мыслительных средств и методов анализа» [Щедровицкий, 2005, с. 227]. Знания о мышлении зависят от способов и инструментов, посредством которых конституируется это знание. В этом плане продуктивная реконструкция тех или иных исторических форм знания о мышлении требует не столько собирания полной коллекции предметных представлений о мышлении, сколько восстановления и описания тех методологических подходов, исследовательских программ, типов научной рациональности, с позиции и посредством которых строились эти предметные представления. В качестве таковых Г.П. Щедровицкий описал два противоположных подхода, к которым в той или иной мере примыкают все исследователи мышления. Внутри каждого из этих подходов наблюдается комплекс взаиморелевантных предметных представлений, гносеологических установок и соответствующих средств анализа мышления. Он замечает, что на протяжении длительного времени гносеологическая «драма» междисциплинарного дискурса о мышлении «…проявляется в длительном противостоянии и сосуществовании формальнологического подхода к мышлению, либо начисто отвергающего развитие мышления, либо ограничивающего его одной лишь областью содержания, и культурно-исторического подхода, исходящего из идеи развития и подчеркивающего первенствующее значение исторических процессов во всех духовных явлениях, в том числе и в мышлении» [Щедровицкий, 2005, с. 228]. К нему мы еще вернемся в ходе аналитического обзора основных подходов к пониманию мышления как предмета исследования.
Представители формально-логического подхода руководствуются следующей гносеологической установкой: «“мышление” (…) – это и есть формальные рассуждения, осуществляемые в соответствии с зафиксированным в логике схемами умозаключений, что вне и помимо этого в “мышлении” вообще больше ничего нет, а поэтому не имеет смысла говорить о каких-то иных процессах, протекающих в мышлении, помимо процессов формального рассуждения» [Щедровицкий, 2005, с. 231]. Г.П. Щедровицкий выявил два принципиальных основания, на которых базируются подобные установки: «догматизм» и «искусственный подход к духовным явлениям» (в данном случае признание их логической нормированности). Реальные процессы «жизни» мышления (метафора Г.П.) при этом элиминируются или сводятся к «процессам формального умозаключения (или формального вывода)» [Там же]. Вместе с признанием этого подхода в качестве основополагающего психология мышления теряет свой предмет.
Помимо этих глобальных подходов к анализу мышления в процессе становления психологического познания, сложилось немало других. В.В. Петухов в качестве основных подходов к разработке психологии мышления рассмотрел механистический, телеологический, целостный, генетический, когнитивный, личностный, исторический [Петухов, 1987]. Они стали предметом критического анализа при реконструкции исторического пути психологии мышления. Данные подходы отражают соответствующие эпистемологические установки и методологические инструменты, которыми располагали ученые при построении своих предметных представлений о природе мышления в его содержательном и динамическом аспектах. Во многом они определяются теми частными парадигмами, которые разделялись представителями влиятельных психологических школ на определенном историческом этапе развития психологического познания.
Механистический подход, по словам В.В. Петухова, был «представлен тремя различными теориями: а) теорией ассоцианизма (или структурной) – одним из направлений психологии сознания; б) классической психологией поведения (бихевиоризмом); в) информационной теорией мышления (в ее первых вариантах)» [Петухов, 1987, с. 21]. В этих теориях мышление редуцируется то к ассоциативному синтезу чувственных представлений, то к научению и «безгласному поведению», то к процессам переработки информации. Ключевыми характеристиками механистических представлений о мышлении, независимо от психологической школы, которая ими оперирует, являются: бессубъектность, реактивность, избегание попыток поставить вопрос «Кто мыслит?», моделирование мышления безотносительно к рефлексии над адекватностью языка, который применяется в этих целях. Внутренняя несогласованность в общем эпистемологическом корпусе данного подхода проявляется в том, что наряду «с “диффузной”, хаотичной, случайно подкрепляемой активностью оказывается алгоритмическая программа» [Там же]. Несмотря на вескую критику, подобные «концептуальные атавизмы» встречаются и по сей день. Мышление, выведенное за рамки бытия мыслящего человека, либо гипостазируется, либо описывается неомеханистиче-ским языком, который исключает возможность усмотрения в ментальном опыте человека его экзистенциально-феноменологической стороны.
«Вся европейская классическая традиция изучения мышления в психологии, – как пишет И.А. Васильев, – основана на философии и психологии ассоцианизма. В рамках этого подхода сложилась довольно простая конструкция человеческой умственной деятельности, в том числе и мышления: умственная деятельность пред-
ставлялась как образование связи чувственных представлений в сознании человека» [Васильев, 2018, с. 28]. Аналогом ассоциативного механизма мышления выступает «механизм “наложения фотографий”, согласно которому при ассоциировании нескольких представлений их общие, существенные признаки акцентируются, образуя в итоге понятие, а несущественные исчезают» [Петухов, 1987, с. 22]. Таким образом, каждый продукт «мыслительной активности» является результатом акцентировки существенных признаков представлений, объединяющихся в определенный ассоциативный комплекс, соответственно, всякая мысль понималась как результат ассоциативного синтеза (по большей части непроизвольного) отдельных представлений.
Как отмечал О.К. Тихомиров, в период бурного развития ассоцианизма психология мышления еще не обособилась «в качестве самостоятельного раздела психологической науки» [Тихомиров, 1984]. Мышление сводилось к непроизвольному следованию и накоплению образов-представлений («апперцептивной массы») и являло собой, по замечанию Л.С. Выготского, «автономное течение себя мыслящих мыслей» [Выготский, 1982б, с. 21]. Мышление в контексте этих наивных механистических взглядов превращается в автономный ток мыслей, «… отрывается от всей полноты живой жизни, от живых побуждений, интересов, влечений мыслящего человека». В результате подобной редукции оно «…оказыва-ется совершенно ненужным эпифеноменом, который ничего не может изменить в жизни и поведении человека» [Там же]. Соответственно, в рамках ассоционистских учений о произвольной мыслительной активности речи не шло. Реконструкция мыслительного процесса, его экспериментальное моделирование пока оставались нерешаемыми исследовательскими задачами. Роль субъекта мышления как носителя и «собственника» познавательных интенций также была весьма завуалирована и неясна. Отсюда мышление, с одной стороны, становилось реактивным актом, а с другой – репродуктивным процессом, поскольку он не порождал никаких принципиально новых идей, представлений.
В классическом бихевиоризме мышление отождествлялось с любыми формами безгласного поведения и беззвучного пользования языком. «Понятие мышления, – отмечал Дж. Уотсон, – должно быть расширено включением в него всех видов скрытой речевой деятельности, а также и других замещающих ее деятельностей. В этом случае мышление охватывало бы беззвучное пользование языком или любым другим родственным материалом...» [Уотсон, 1926]. Представители когнитивной теории поведения привнесли ряд новых понятий, позволяющих описывать те или иные промежуточные переменные: «когнитивная карта», «познавательная структура», «познавательный план», «образ», «ожидание», «готовность» и т.п. Мышление выступало здесь как внутренний, ненаблюдаемый момент научения, образования двигательного навыка, решения практической задачи, адаптивноприспособительного характера. Дальнейшее развитие идеи необихевиористов (Ю. Галантер, Д. Миллер, К. Прибрам, Э. Толмен) об опосредовании поведения животного и человека когнитивными структурами создавало предпосылки для обособления когнитивной психологии в самостоятельную область исследования.
Первые информационные модели мышления (разработанные А. Ньюэллом и Г. Саймоном) были предложены для оценки возможности «моделирования мышления человека на ЭВМ» [Петухов, 1987, с. 23], его объяснение посредством системы понятий, «описывающих работу вычислительного устройства» [Тихомиров, 1976]. Мышление в данном подходе редуцируется к элементарным и линейным процессам переработки информации посредством определенных алгоритмических программ. Э. Фейгенбаум пошел дальше своих коллег и предложил модель «экспертной системы» (информационный аналог мыслящего человека), которая включала «базы знаний» (или вместилища экспертных данных) и «машины вывода», осуществляющие поиск релевантной информации по базам знаний, чтобы построить адекватные суждения по тем или иным запросам [Вычислительные…, 1967].
С точки зрения О.К. Тихомирова, основное заблуждение представителей информационного подхода относительно природы мышления заключалось в сведении сложных процессов мышления к цепочкам элементарных процессов манипулирования знаками. При этом происходит элиминирование важнейшего и собственно «психологического содержания мышления как деятельности реального человека», которая направлена не столько на решение стимульной задачи, сколько на формирование и переформулирование самой задачи [Тихомиров, 1976]. За рубежом подобные критические аргументы высказывал Х. Дрейфус [Дрейфус, 1978], ставя под сомнение возможность замены мышления эксперта искусственной рассудочностью «экспертной системы», которая напрочь лишена сенсомоторной оснастки, интуиции и способности к осмысленной делиберации вариантов оптимального решения задачи. Такие «…реальные функциональные образования, как смысл (операциональный и личностный) и ценность объектов для человека» [Тихомиров, 1976], участвующие в регуляции мыслительной деятельности, ошибочно ставятся в один ряд с чисто информационными переменными.
Телеологический подход к мышлению был предложен представителями вюрцбургской школы (Н. Ах, О. Зельц, О. Кюльпе, К. Марбе). Как отмечал В.В. Петухов, ключевые исследовательские вопросы в рамках данного подхода касались: «а) введения понятий, учитывающих активность мыслящего субъекта; б) описания свойств мышления как особой психической реальности и выделения его содержания; в) объяснения психологических механизмов мыслительного процесса» [Петухов, 1987, с. 27]. Н. Ахом было введено понятие детерминирующей тенденции – регулятивного фактора мыслительного процесса, который направляет его динамику, придает ему основной «маршрут» исходя из целевой структуры. Этот регулятивный фактор ко всему прочему, как отмечает Л.М. Веккер [Век-кер, 1998], противодействует контрпродуктивным и отклоняющим вклиниваниям, пресерва-циям и ассоциациям.
Безусловной заслугой и новизной этого подхода является рассмотрение мышления как внутреннего акта усмотрения отношений между явлениями. Освобождение исследователей от ас-соционистских воззрений заявило о себе в концепции «мышления без образов». Всякие случайно всплывающие чувственные представления выводились за рамки мыслительного акта. Исследовательский курс был взят на экспериментальное выявление самой сущности мыслительных актов (суждения, полагания и т.д.), а также тех детерминирующих тенденций, которые «придают мышлению целенаправленный характер, упорядочивая ходу мыслей» [Тихомиров, 1984, с. 254]. Ненаглядные и чувственно не-воспринимаемые элементы мысли становились искомыми переменными в экспериментах представителей вюрцбургской школы. Особое значение придавалось постэкспериментальному самоотчету испытуемого с целью выявить установки (Einstellung) или «неопределенные, трудно анализируемые состояния сознания, регулирующие в соответствии с задачей отбор и динамику содержания мышления» [Там же].
Отдельное внимание уделялось целому кругу феноменов и переживаний интеллектуального порядка, которые были отнесены к особому классу «безобразных мыслей», «сознанностей» о сущностных свойствах познавательной задачи, о требованиях и условиях, необходимых для ее решения. Это были и сомнения, и чувства уверенности в правильности как ответа, так и самой задачи. Выдвижение на первый план этих феноменов и их экспериментальное изучение позволили прийти к заключению, «о том, что по своему содержанию мышление – это осознание (“усмотрение”) отношений, не зависимое от чувственных, наглядных представлений» [Петухов, 1987, с. 29]. По замечанию А.К. Славской, основной тезис, который следовал из экспериментальных данных, полученных в вюрцбургской школе, гласил: «человек способен мыслить отношения, минуя стадию представлений» [Славская, 1968, с. 31].
О. Зельц рассматривал мышление как аналог функционирования интеллектуальных операций. Ключевое внимание он сосредоточил
на анализе первой фазы мышления, которая ведет к образованию «общей задачи» и релевантного ей «проблемного комплекса», включающего в себя известное и неизвестное (искомое), а также предметные отношения между ними. Для описания механизма обнаружения неизвестного в ситуации решения новой задачи было предложено понятие «антиципация». В процессе решения сложной задачи человек периодически возвращается к ее предметному содержанию, углубляется в анализ «проблемного комплекса» и создает его альтернативные варианты. В этом и заключается основная динамика мышления.
Несмотря на явные продвижения представителей данного подхода в понимании мыслительных процессов, их идеи все же воплощали собой те или иные варианты формально-логического редукционизма, что, в частности, было подмечено Ж. Пиаже. Он писал, что, начиная с К. Мар-бе и вплоть до О. Зельца, логические законы, будучи в чистом виде факторами экстрапсихологи-ческими, заполняли «пробелы психической каузальности», а объяснения строились по принципу «логико-психологического параллелизма», превращая «мышление в зеркало логики» [Пиаже, 2004]. Тем не менее исследовательские изыскания представителей Вюрцбургской школы, по замечанию И.А. Васильева, способствовали обострению двух проблем. Одна из них была связана с выявлением принципа несоответствия предметного содержания абстрактной мысли ее чувственным предпосылкам. «Вторая проблема связана с осознанием человеком и выражением им в речи хода своего мышления. Вопрос можно поставить и в другой форме: как в сознании человека проявляются закономерности мышления?» [Васильев, 2018, с. 30].
Целостный подход к мышлению был разработан представителями гештальтпсихологии (К. Бюлер, М. Вертгеймер, К. Дунке, В. Келлер, К. Коффка, К. Левин). Они сосредоточили внимание на изучении разумных способов решения задачи, которые были противоположны способу «проб и ошибок» и способу переноса сложившегося ментального опыта. Процесс решения мыслительной задачи идет по пути включения элементов проблемной ситуации в контекст нового гештальта и приобретения этими элементами нового значения. Это ведет к переструктурированию проблемной ситуации (инсайту) и раскрытию новых свойств объекта. Мышление тем самым выводится из под влияния предшествующей мыслительной активности человека (пресервационных и ассоциативных факторов) и рассматривается под углом внезапного озарения (в феноменологическом плане), когда человек «схватывает» принцип решения мгновенно и безотносительно к прошлому мыслительному опыту. Прошлый опыт не только не оказывает ключевого влияния на решение новой, продуктивной задачи, но и может вызывать эффект тормозящего направления, ограничивающего усмотрение новых отношений между элементами проблемной ситуации. Важнейшее значение в нахождении способа решения задачи играет не перенос освоенной ранее схемы ее решения, а организация и реорганизация проблемной ситуации в сознании человека посредством мыслительного акта, «который обогащает прошлый опыт субъекта и является для него продуктивным» [Петухов, 1987, с. 38].
С точки зрения К.А. Славской, представители гештальтпсихологии, в отличие от своих коллег из вюрцбургской школы, все же смогли выйти за рамки понимания мышления как репродуктивного процесса. Продуктивность мышления обнаруживалась в возникновении нового структурного качества (целостности, гештальта), которое не сводилось к простой сумме отдельных элементов. Вместе с тем сам механизм мыслительной деятельности долгое время оставался неуловимым. К. Дункер был одним из первых представителей данной школы, кто предпринял попытку описания процесса мышления в динамике. Он предположил, что каждая новая фаза мышления, с одной стороны, является ответом на проблемный вопрос предыдущей фазы, а с другой – сама является вопросом по отношению к следующей фазе поиска решения. «В целом процесс решения первоначальной проблемы, согласно К. Дункеру, есть процесс развития или трансформации проб-лемы» [Васильев, 2018, с. 32].
Ключевым качественным показателем продуктивности мышления, согласно К. Дункеру, является «транспонируемость» (другими словами, мера переноса) общего принципа решения, который может в дальнейшем подвергаться варьированию в соответствии с требованиями новой задачи [Дункер, 1965].
Центральная идея генетического подхода Ж. Пиаже заключалась «в том, что содержание, сущность мышления могут быть раскрыты только при анализе закономерностей его становления, развития, формирования» [Петухов, 1987, с. 45]. Основной «нерв» критических замечаний Ж. Пиаже относительно современной ему психологии мышления заключался в том, что она лишена «генетической перспективы» и «анализирует исключительно конечные стадии интеллектуальной эволюции» [Пиаже, 2004]. «И нет ничего удивительного, - замечает швейцарский психолог, - что, оставаясь рамках завершенных состояний и завершенного равновесия, она (психология мышления. - Н.Н. ) приходит в конечном итоге к панлогизму и вынуждена прервать психологический анализ перед лицом ни к чему не сводимой данности законов логики» [Там же]. Неудовлетворенность таким положением дел стимулировала Ж. Пиаже к раскрытию ступеней и таинств интеллектуальной эволюции через объяснение того, как из сенсомоторного интеллекта рождаются формальные операции мышления, способные к композиции и обратимости и при этом сохраняющие свою «психологическую, по существу активную и конструктивную природу» [Там же]. Равновесие операционального мышления как некий финальный виток этой эволюции «отнюдь не представляет собой некоего состояния покоя, а является системой уравновешивающихся обменов и трансформаций, бесконечно компенсирующих друг друга». «Это равновесие полифонии, а не системы инертных масс», - подчеркивал Ж. Пиаже [Там же].
В когнитивном подходе, как в более усовершенствованной и экспериментально усиленной версии информационного подхода, мышление отождествляется с информационными алгоритмами и механизмами отбора и обработки информации. Сам человек зачастую редуцируется представителями данного подхода к искусственному решателю задач. «Опорной научной метафорой, - по замечанию В.В. Петухова, - является здесь представление о человеке как канале передачи и обработки информации, аналоге компьютерных систем» [Петухов, 1987, с. 49]. Сознание, в свою очередь, тоже рассматривается как интегральная репрезентация процессов и продуктов когнитивной переработки информации: «…механизмы решения задач и их необходимые условия (сознательные представления, социальный опыт, смысловая сфера личности и др.) рассматриваются как исключительно когнитивные» [Там же]. С этой целью в лексикон психологии вводится ряд понятий и кибернетических метафор, используемых для «...описания процесса познания и его средств (когнитивные “схемы”, карты, планы, функциональные блоки отбора, хранения, обработки информации и др.)» [Там же].
Существенным, хотя и не лишенным изъянов шагом в становлении когнитивной психологии стала попытка А. Ньюэлла и Г. Саймона разработать информационную модель, которая бы имитировала поведение человека в ситуации решения задачи. Как отмечает М. Фаликман: «Именно в работах Ньюэлла и Саймона появляется важная для дальнейшей психологии мышления идея эвристики. Не просто алгоритма как исчерпывающего перебора всех возможных решений, а правил или принципов сокращения пространства поиска, которые негарантированно ведут к нахождению результата, но зато существенно сокращают число проб» [Фаликман, 2014]. П. Уэйсон на материале серии исследований установил, что человек в ходе решения задачи в большей мере придерживается тенденции к подтверждению, нежели к опровержению. Он пришел к выводу, что это очень устойчивая и доминирующая характеристика мышления человека. А. Тверски и Д. Канеман обнаружили, что человек при выборе одной из альтернатив, при формулировании вывода и оценке вероятности события прежде всего учитывает не фактические данные, представленные в задаче, а контекст и способ предъявления данных в этой задаче.
Как отмечают В.А. Гершкович и М.В. Фалик-ман [2018], сегодня в когнитивной психологии наметились отход от абстрактной «системы переработки информации» и возвращение к исследованию целостного человека мыслящего, наделенного телесными, персональными и интерперсональными характеристиками. Второй переход связан с экспериментальной и теоретической легитимацией эмоционального познания и возникновением когнитивно-аффективной психологии как альтернативы классического когнитивного подхода. Третий переход связан с признанием укорененности человеческого познания в культурном контексте, его опосредованности культурными артефактами и опосредство-ванности знаково-символическими средствами, что, в общем-то, еще восходит к идеям Л.С. Выготского. Современная когнитивная психология представляет собой целую «сеть взаимосвязанных научных дисциплин, занимающихся исследованиями человеческого познания и его мозговых механизмов» [Фаликман, 2014, с. 2]. Помимо того что мышление является далеко не единственным предметом исследования в «традиционном реестре познавательных процессов» (метафора М. Фаликман), оно далеко не всегда оказывается центральной фигурой в исследовательском фокусе когнитивистов, в границах которого оказывается широкий круг явлений: «от сетчаточных механизмов цветоразличения» до «социальных стереотипов» [Там же].
Таким образом, сегодня в общем исследовательском курсе когнитивной психологии наметился явный антропологический крен. Она активно ищет выходы за границы замкнутого когнитивного аппарата, в рамках которого якобы и происходит переработка информации, и включает в свои объяснительные модели телесные, интерперсональные и социокультурные переменные. Примечательно, что задолго до антропологического прозрения когнитивистов В.В. Петухов сформулировал своего рода антропологический манифест психологии мышления: «Психология изучает мышление конкретного человека в его реальной жизни и деятельности. Опираясь на общее определение мышления в филосо- фии и решение ее основного вопроса об отношении сознания к бытию, психология рассматривает конкретные виды мыслительной практики, не сводимые полностью к формально-логическим нормам, законам общественного сознания, физиологическим и другим телесным механизмам мыслительных процессов, их отображению в моделях искусственного интеллекта. Тем самым объектом психологии мышления является реальный человек, интеллект которого неотделим» [Петухов, 1987, с. 6]. Позднее в исследованиях О.М. Краснорядцевой было доказано, что центральная функция мышления в реальной жизнедеятельности заключается в выявлении и разрешении противоречий между образом жизни и образом мира человека [Краснорядцева1, 1997]. Соответственно, чем шире контекст рассмотрения мышления, тем масштабнее и полнее понимание его роли в регуляции жизнедеятельности человека. Если оно изучается в контексте когнитивной сферы психики, то, как правило, редуцируется к операциональной вычислительно-сти, процессам переработки информации в ситуации решения экспериментально смоделированных противоречий, если берется в контексте ментального, жизненного пространства человека, то наделяется функциями более масштабного порядка – обеспечивать целостность и транстемпоральную преемственность многомерного образа мира в ходе самостоятельного обнаружения и разрешения человеком значимых и долгоиграющих противоречий в собственном жизненном мире. Во втором случае мышление начинает рассматриваться в призме феноменологии становления и самоорганизации: «Пронизывая человеческое бытие, становление представляется переходом от одной формы бытия к другой, его характеристикой, его сущностью, проявляющейся в самодвижении мысли и деятельности от неопределенности к определенности, от неорганизованного или утрачивающего свою организованность жизнеустройства к организованному» [Клочко, 2005, с. 30]. Самоорга- низованные личности в большей мере способны к переориентации собственного мышления с решения ситуативных, приспособительных задач на разрешение актуальных вопросов жизни [Sherblom, 2017]. Посредством мышления реализуется функция организации системы саморе-презентаций человека в ситуации сложного морального выбора и обеспечения их согласованности [Silva da, Araújo, 2023].
Широкое распространение в отечественной психологии мышления получил личностный или мотивационный подход. «Мыслительная деятельность человека рассматривается здесь как направленная его реальными побуждениями, мотивами, а ее продукты – как зависимые от эмоциональных состояний, способов преодоления внутренних конфликтов, обретающие свой действительный смысл лишь в отношении к развитию личности» [Петухов, 1987, с. 49–50]. Мышление рассматривается под углом «целенаправленной, мотивированной, личностно-обусловленной деятельности». Представителями данного подхода «проводится идея о взаимодействии мотивационной и операциональной структур в едином процессе мышления» [Тихомиров, 1976]. Так, П.Я. Гальперин считал, что внутренняя мотивация не только создает энергетический потенциал для актуализации и поддержания мыслительного процесса, но еще выполняет ориентировочную функцию, выступает в качестве важнейшего условия адекватного уяснения человеком мыслительной задачи [Цит. по: Тихомиров, 1976]. О.К. Тихомиров отмечал: «Внутренняя мотивация мыслительной деятельности составляет, таким образом, одно из важнейших, решающих условий ее развития, эффективности, перехода к высшим формам продуктивного творческого мышления» [Тихомиров, 1976]. Основная магистраль исследовательских изысканий связана с раскрытием многообразия форм и механизмов «действительного взаимодействия личностно-мотивационной сферы субъекта и содержательно-структурных компонентов мышления» [Там же]. В.Н. Мясищев при описании состояния изучения психических процессов, сетовал, что оно осуществляется «как “анализ деятельности в отрыве от дея- теля”, как изучение объекта – процесса психической деятельности без субъекта – личности» [Цит. по: Тихомиров, 1976]. В.В. Давыдов в результате ретроспективного обзора собственных работ заключил: «В последние годы мы пришли к выводу, что теоретическое мышление – это характеристика не мышления, а целостной человеческой личности» [Цит. по: Щедровицкий, 1999]. Примечательно, что параграф «Мышление и личность» в известной книге О.К. Тихомирова начинается с утверждения: «Мыслит не мышление, а человек, личность» [Тихомиров, 1984, с. 194]. Позже почти идентичное утверждение будет высказано В.П. Зинченко: «Мыслит не мышление, а сознающий себя человек» [Зинченко, 2002]. Мотивы, личностные ценности и смыслы, отношения личности к миру и к себе, с одной стороны, могут стать специальным предметом самоосмысляю-щего раздумья человека, а с другой – придают избирательный характер ориентировке и решению мыслительной задачи.
Основное положение культурно-исторического подхода к мышлению, с позиции В.В. Петухова, заключается в следующем утверждении: «…человек любой культуры “сопричастен” конкретным историческим условиям жизни и деятельности общества, его моральным и другим установлениям, которые определяют и структурируют сознательное представление окружающего мира. Это представление существует как неустранимый “фон”, необходимое условие любых познавательных процессов» [Петухов, 1987, с. 50].
В культурно-исторической психологии Л.С. Выготского основные аналитические акценты делаются на психологических механизмах перехода «от непосредственных интеллектуальных процессов к опосредствованным с помощью знаков операциям» [Выготский, 1982б, с. 135], на генезисе осознания и овладении мыслительными операциями, на возникновении и перестройке функциональных систем, по-новому раскрывающих объект в единстве его аффективноинтеллектуальной репрезентации и обусловливающих качественно «новый ход мышления». Проблема мышления и речи, как отмечал Л.С. Выготский, становится «узловой проблемой
всей психологии человека, непосредственно приводящей исследователя к новой психологической теории сознания» [Выготский, 1982, с. 9]. Мышление в понятиях как высший этап интеллектуального развития ребенка Л.С. Выготский рассматривает как «функцию социальнокультурного развития». А.Р. Лурия в серии полевых экспериментов, проведенных в Средней Азии, установил, что «перестройка организации мышления может произойти за относительно короткое время при наличии достаточно резких изменений социально-исторических условий» [Лурия, 1982, с. 69]. «Каждый отдельный человек в процессе воспитания и обучения присваивает себе и превращает в формы собственной деятельности те средства и способы мышления, которые созданы обществом в соответствующую историческую эпоху. Чем полнее и глубже он присвоил всеобщие категории мышления, тем продуктивнее и логичнее его мыслительная деятельность» [Давыдов, 1972, с. 333].
Примечательно, что обоснование необходимости включения целостного человека в предметное поле психологии мышления впервые было предпринято именно Л.С. Выготским. В частности, ему принадлежит известное предупреждение, обращенное к его современникам – исследователям мышления: «Как только мы оторвали мышление от жизни, от динамики и потребности, лишили его всякой действенности, мы закрыли себе всякие пути к выявлению и объяснению свойств и главнейшего назначения мышления: определять образ жизни и поведения, изменять наши действия, направлять их и освобождать их из-под власти конкретной ситуации» [Выготский, 1983, с. 252]. Позднее схожий тезис был сформулирован С.Л. Рубинштейном: «Мышление как предмет психологического исследования не может быть определено вне отношения мысли к бытию» [Рубинштейн, 1989, с. 364]. Л.С. Выготский был одним из первопроходцев в исследовании становящегося мышления, в раскрытии его динамики в условиях знаково-символического опосредствования, направляемого экспериментатором. В эксперименте по искусственному формированию понятий впервые была инициирована и зафиксирована динамика перехода ребенка от наглядно-образного (синкретного) мышления к мышлению, оперирующему предпонятийными и понятийными средствами, к мыслительному поиску, направляемому отвлеченными знаками, являющимися заместителями материальных объектов.
Спустя полвека в экспериментальных исследованиях, выполнявшихся в рамках проектирования О.К. Тихомировым смысловой теории мышления [Тихомиров, 1984], были выявлены и описаны психологические механизмы перехода субъекта мыслительной деятельности к новому принципу опознания мыслительной ситуации и решения мыслительной задачи. Основоположник новой теории мышления, вобравшей в себя элементы классической, неклассической и постнеклассической рациональности, ясно осознавал пробел в психологии мышления, оставленный его предшественниками: «Кто оторвал мышление с самого начала от аффекта, тот навсегда закрыл себе дорогу к объяснению причин самого мышления…» [Выготский, 1982, с. 21]. Под его руководством группой ученых (И.А. Васильевым, Е.Ю. Виноградовым, В.Е. Клочко, В.Л. Поплужным и др.) были выявлены и описаны механизмы эмоциональной регуляции мыслительной деятельности человека, такие как «эмоциональное наведение» и «эмоциональная коррекция». В частности, было установлено, что эмоциональные оценки выступали в качестве индикатора зарождающегося «нового принципа решения» мыслительной задачи, отодвигающего на второй план «старый», изжитый принцип, поисковый и творческий потенциал которого уже исчерпан [Тихомиров, 1984].
Усилиями О.К. Тихомирова, его учеников и последователей контекст рассмотрения мышления расширяется с экспериментальной ситуации до многомерного мира человека (ментального пространства), с мыслительной деятельности до самоосуществления и самоорганизации человека в мышлении. Здесь можно воспользоваться достаточно известными высказываниями М.К. Мамардашвили о том, что человек в мышлении не только сбывается и осуществляется, он в нем еще и доопределяется [Мамардашвили, 2000]. «Мышление человека начинает рассматриваться в интегральной психологической системе, что дает возможность поставить в центр исследований порождение системных сверхчувственных качеств предметов (значений, смыслов и ценностей) в многомерном мире человека. Таким образом, развивается “смысловая теория мышления”, в которой ставятся вопросы о роли мышления в жизнедеятельности и “жизнеосуществлении” человека» [Васильев, 2018, с. 40–41]. «Переход от исследования саморегуляции деятельности к изучению самоорганизации человека, – по мнению В.Е. Клочко, – был предрешен» [Клочко, 2007, с. 162]. Как и был предрешен переход от исследования саморегуляции мыслительной деятельности к изучению самоорганизации (самоконституирования) человека в мышлении. Человек не дан в мышлении как некий константный субъект познания, он постоянно доопределяется в собственном мышлении, очерчивает границы «нарождающегося» ментального опыта, совершает переходы за границу отработанных способов мышления и когнитивных схем. Не случайно М.К. Мамардашвили подчеркивал, что «акт мысли совершается в поле глобальных “связностей” сознания» [Мамардашвили, 2014, с. 260].
Заключение. С точки зрения И.А. Васильева, смысл интеграции психологического знания в области психологии мышления «состоит в порождении (производстве) новых интегральных принципов, снимающих односторонность (гипертрофию, неравновесность, абсолютность) исходных принципов» [Васильев, 2018, с. 40–41]. В качестве такого принципа мы предлагаем принцип сопряженности экзистенциального и ментального опыта человека. Трансспективный анализ и реконструкция предметного поля психологии мышления предполагают прослеживание и осмысление перехода исследователей от дискретно-временных и дискретно-пространственных характеристик мышления к функциональному и экзистенциальному пространству-времени мышления. Подобные изыскания уже наметились в работах зарубежных исследователей, которые оперируют такими концептами, как «экзистенциальный разум» [Gardner, 1999], а также «экзистенциальное мышление» [Allan, Shearer, 2012]. Экзистенциальное мышление рассматривается как процесс, посредством которого человек определяет личностные смыслы по отношению к собственным экзистенциальным заботам и проблемам [Allan, Shearer, 2012].
Если мышление является для человека жизненным актом и одним из центральных модусов его бытийного отношения к миру, то в нем он не столько оперирует логическими формами и строит понятийные структуры, сколько воплощает «метафизическое томление по смыслу», захватившее его «вплоть до самых прозаических занятий» [Мамардашвили, 2012]. «В мышлении человек занимается вопрошанием смысла, поиском, обнаружением, приписыванием смысла. Он осмысливает, переосмысливает, обессмысливает окружающий мир и себя самого, открывает соответствия и несоизмеримость смыслов», – подчеркивает философ И.Т. Касавин [Касавин, 2007, с. 6]. Он в случае «свободной инициации мышления» (термин О.М. Краснорядцевой) откликается именно на те условия и переменные познавательной задачи, которые скрывают в себе возможности осмысленного, созидательного укоренения в хронотопе собственного бытия – содержат, выражаясь словами М. Хайдеггера, возможности для возникновения «тяги» бытия.
Такой переход «к хронотопическим характеристикам человека, к пространственно-времен-ной организации его жизненного пространства» [Клочко, 2007, с. 163] вполне отвечает исследовательским трендам постнеклассической психологии. Поскольку хронотоп целостно понятого, конкретного человека – «это текст жизни, вплетенный в эпоху (исторически, т.е. временно) и “место-пространство”, где эта жизнь протекает» [Логинова, 2009, с. 99], то и мышление, как антропологическую практику саконституирования (поскольку человек постоянно доопределяется, достраивается в актах мышления [Мамардашвили, 2000; 2012]), необ-
ходимо рассматривать с этих же позиций. Реализация трансспективного взгляда на изучение феномена «длящегося мышления» (экзистенциальной динамики мышления) требует перехода от предметно-ситуативного плана мышления (который чаще всего учитывается в лабораторном эксперименте) к пространственновременной организации мышления (хронотопу, в котором сходятся ментальное пространство и экзистенциальное пространство человека). По мере становления психологической науки исследовательский фокус смещался как минимум в трех направлениях. Во-первых, от операционально-динамической стороны мышления к ценностно-смысловой ситуации мышления и, далее, к пространственно-временной организации мышления. Во-вторых, от оператора мыслительных процессов (деперсо-нифицированного решателя задач) к субъекту мыслительной деятельности, осуществляемой в культурном контексте, и, далее, к человеку, мыслящему в контексте всей истории его мыследеятельных отношений с миром и с собой, которая в содержательном плане оформляется в персональную антологию мысли, а в субстанционально-феноменологическом – в когитальную идентичность [Нелюбин, 2023]. В-третьих, от индивидуально-типологических характеристик мыслительного процесса к ценностно-смысловым основаниям мышления и, далее, к экзистенциальным основаниям аутентификации человека в трансспективе собственного мышления.
Ранее нами уже была предпринята попытка формулирования предмета постнеклассической психологии мышления [Нелюбин, 2023]. В данной работе мы его уточним и дополним. Это мыслящий человек, организующий и преобразующий множественные измерения собственного бытия в целостное и осмысленное пространство «когитальной индивидуации» (пространство-время длящегося мышления), трансформирующий каждую новую ситуацию мышления в особое событие знания и понимания, устанавливающий смысловые соответствия между индивидуально значимыми познавательными противоречиями и экзистенциальными дилеммами. Все то, что в мышлении устанавливалось в качестве предмета персонифицированной мысли, является свидетельствами многочисленных, взаиморелевантных попыток человека, вопрошающего о смысле, темати-зировать, аутентифицировать и доопределить свою когитальную идентичность, открытую к трансграничным и вместе с тем к референтным по отношению к ней идеям и вопросам.
Список литературы Предмет психологии мышления в трансспективе становления психологического познания
- Васильев И.А. Проблема отражения и порождения смыслов в мышлении человека // СПЖ. 2018. № 67. С. 27–43. DOI: 10.17223/17267080/67/3
- Веккер Л.М. Психика и реальность: единая теория психических процессов. М.: Смысл, 1998. 679 с.
- Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6 т. / под ред. А.Р. Лурия, М.Г. Ярошевского. М.: Педагогика, 1982а. Т. 1: Вопросы теории и истории психологии. 488 с.
- Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6 т. / под ред. В.В. Давыдова. М.: Педагогика, 1982б. Т. 2: Проблемы общей психологии. 504 с.
- Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6 т. / под ред. Т.А. Власовой. М.: Педагогика, 1983. Т. 5: Основы дефектологии. 368 с.
- Вычислительные машины и мышление: пер. с англ. / под ред. Э. Фейгенбаума, Дж. Фельдмана. М.: Мир, 1967. 552 с.
- Гершкович В.А., Фаликман М.В. Когнитивная психология в поисках себя // Российский журнал когнитивной науки. 2018. Т. 5, № 4. С. 28–46 [Электронный ресурс]. URL: https://publications.hse.ru/pubs/share/direct/338367479.pdf (дата обращения: 12.07.2023).
- Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении: логико-психол. проблемы построения учеб. предметов. М.: Педагогика, 1972. 424 с.
- Дрейфус Х. Чего не могут вычислительные машины: Критика искусственного разума. М.: Прогресс, 1978. 334 с.
- Дункер К. Психология продуктивного (творческого) мышления // Психология мышления / под ред. А.М. Матюшкина. М.: Прогресс, 1965. С. 86–235.
- Зинченко В.П. Наука о мышлении (ч. 1). Психологическая наука и образование. 2002. Т. 7, № 1. С. 5–18 [Электронный ресурс]. URL: https://psyjournals.ru/journals/pse/archive/2002_n1/Zinchenko (дата обращения: 12.07.2023).
- Касавин И.Т. Смысл как проблема эпистемологии и науки // Epistemology & Philosophy of Science. 2007. № 3. С. 5–16 [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/smyslkak-problema-epistemologii-i-nauki (дата обращения: 12.07.2023).
- Клочко В.Е. Постнеклассическая трансспектива психологической науки // Вестник Томского государственного университета. 2007. № 305. С. 157–164 [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/postneklassicheskaya-transspektiva-psihologicheskoy-nauki (дата обращения: 12.07.2023).
- Клочко В.Е. Самоорганизация в психологических системах: проблемы становления ментального пространства личности (введение в трансспективный анализ). Томск: Том. гос. ун-т, 2005. 174 с.
- Клочко В.Е. Смысловая теория мышления в трансспективе становления психологического познания: эпистемологический анализ // Вестник Московского университета. 2008. Сер. 14: Психология. № 2. С. 87–101 [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/smyslovayateoriya-myshleniya-v-transspektive-stanovleniya-psihologicheskogo-poznaniya-epistemologicheskiyanaliz (дата обращения: 12.07.2023).
- Логинова И.О. Хронотопические характеристики жизненного самоосуществления человека // МНКО. 2009. № 7–2. С. 98–103.
- Лурия А.Р. Этапы пройденного пути: науч. автобиография / под ред. Е.Д. Хомской. М.: Изд-во МГУ, 1982. 182 с.
- Мамардашвили М.К. Вильнюсские лекции по социальной философии (Опыт физической метафизики). СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. 320 с.
- Мамардашвили М.К. Сознание и цивилизация: Выступления и доклады. СПб.: Лениздат, 2014. 384 с.
- Мамардашвили М.К. Эстетика мышления. М.: МШПИ, 2000. 416 с
- Нелюбин Н.И. Пролегомены к системно-антропологической теории мышления // СибСкрипт. 2019. № 1 (77). С. 112–120. DOI: 10.21603/ 2078-8975-2019-21-1-112–120
- Нелюбин Н.И. Теоретико-методологические основания включения концепта «когитальная идентичность» в понятийный аппарат постнеклассической психологии мышления // Сибирский психологический журнал. 2023. № 88. С. 6–20. DOI: 10.17223/17267080/88/1
- Новые тенденции и перспективы психологической науки / отв. ред. А.Л. Журавлев, А.В. Юревич. М.: Изд-во Ин-та психологии РАН, 2019. 640 с.
- Петухов В.В. Психология мышления. М.: Изд-во моск. ун-та, 1987. 89 с.
- Пиаже Ж. Психология интеллекта. СПб.: Питер, 2004. 192 с.
- Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: в 2 т. М.: Педагогика, 1989. Т. 1. 488 с.
- Славская К.А. Мысль в действии (Психология мышления). М., 1968. 208 с.
- Тихомиров О.К., Телегина Э.Д., Бабаева Д.Д. «Искусственный интеллект» и психология / отв. ред. О.К. Тихомиров. М.: Наука, 1976. 343 с.
- Тихомиров О.К. Психология мышления. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. 272 с.
- Уотсон Дж.Б. Психология как наука о поведении. М.; Л.: Гос. изд-во, 1926. 384 с.
- Фаликман М. Исследования мышления в когнитивной психологии [Электронный ресурс]. URL: https://postnauka.ru/video/56044 (дата обращения: 12.07.2023).
- Фаликман М. Когнитивная наука: основоположения и перспективы // Логос: философско-литературный журнал 2014. № 1 (97). С. 1–18 [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kognitivnaya-nauka-osnovopolozheniya-i-perspektivy (дата обращения: 12.07.2023).
- Щедровицкий Г.П. Мышление. Понимание. Рефлексия. М.: Наследие ММК, 2005. 798 с.
- Щедровицкий П.Г. Развивающее образование и мыследеятельная педагогика // Первые Чтения памяти В.В. Давыдова. М., 1999. С. 117–129 [Электронный ресурс]. URL: https://shchedrovitskiy.com/razvivajushhee-obrazovanie-i-mysledejatelnaja-pedagogika/ (дата обращения: 12.07.2023).
- Allan B.A., Shearer B. The scale for existential thinking // International Journal of Studies. 2012. Vol. 31 (1). P. 21–37. DOI: 10.24972/ijts.2012.31.1.21
- Gardner H. Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st century. New York, NY: Basic Books, 1999.
- Sherblom S. Complexity-thinking and social science: Self-organization involving human consciousness // New Ideas in Psychology. 2017. Vol. 47. P. 10–15. DOI: 10.1016/j.newideapsych.2017.03.003
- Silva M.A. da, Araújo U. The Theory of organizing models of thinking as a tool for the qualitative and microanalytical study of moral identity // Identity. 2023. Vol. 23. P. 1–18. DOI:10.1080/15283488.2023.2218878