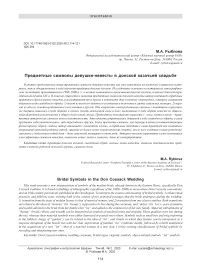Предметные символы девушки-невесты в донской казачьей свадьбе
Автор: Рыблова М.А.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: 2 т.48, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье представлена новая трактовка символов девушки-невесты как уже известных на восточно-славянском материале, так и обнаруженных в ходе изучения традиции донских казаков. Исследование основано на материалах этнографических экспедиций, проводившихся в 1980-2000-х гг. в местах компактного проживания донских казаков, а также донской периодической печати XIX в. В поисках сущности и значения предметных символов донской невесты автор соединяет обрядовые практики и фольклорные тексты, рассматривает те и другие в контексте двух основных «переходов», которые совершает девушка в ходе свадебного обряда: 1) выход из вольного девичьего состояния и включение в группу замужних женщин; 2) переход из одного семейно-родственного коллектива в другой. Оба «перехода» непосредственно связаны с понятиями «красота» (ее девушка лишалась в ходе обряда) и «доля» (часть жизненной силы и благ, выделяемых в ходе обряда невесте из общесемейной/родовой и включаемых в общую долю новой семьи). Предметные воплощения «красоты» - коса, лента и венок - трактуются автором как символы воли и девственности. Эти качества утрачивались девушкой в ходе свадебного обряда, а сами предметы либо уничтожались, либо переходили к другим. Такие предметы-символы, как деревце и ветка (соответствующие фольклорному образу «сада») автор связывает с концептом «доли», а обрядовые действия с ними трактует как поэтапное разрывание невестой родовых связей, лишение ее доли в семье (символическая смерть), после чего следовало новое рождение, связанное с выделением новой доли - доли замужней женщины в новом роду. Автором внесены коррективы в уже имеющиеся классификации символов невесты, выявлены новые знаки и символы, даны их интерпретации.
Традиция донских казаков, свадебный обряд, личные знаки невесты, символы девственности, предметы-символы родовой женской группы, символы доли
Короткий адрес: https://sciup.org/145145990
IDR: 145145990 | УДК: 394 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.2.114-121
Текст научной статьи Предметные символы девушки-невесты в донской казачьей свадьбе
Символика девичества в восточно-славянской традиции весьма разнообразна, но при ее изучении исследователи обычно акцентировали внимание на предметах и образах, которые фигурируют в свадебной обрядности: лента-косоплетка, венок, ветка дерева, птица, полотенце и др. Большинство этих символов и образов связаны с понятием «красота». К его изучению обращались И.М. Колесницкая, Л.М. Телегина, Т.А. Бернштам, А.В. Гура [Колесницкая, Телегина, 1977; Бернштам, 1982; Гура, 2011]. Символы девственности и «переходного состояния» невесты на фольклорных материалах исследовали С.М. Толстая и С.В. Толкачева [Толстая, 2010; Толкачева, 2013]. Трактовку символам невесты дал А.К. Байбурин, представивший свадебный обряд как процесс «создания новых людей» [Байбурин, 1993]. Н.В. Зорин, изучавший среднерусский свадебный обряд, разработал классификацию предметов-символов невесты [Зорин, 2004]. Что касается свадебного обряда донских казаков, то, несмотря на значительный интерес к нему исследователей [Тумилевич, 2012б; Проценко, 2004; Рудиченко, 2000, Гревцова, 2013, 2017], предметы-символы невесты остаются до сих пор малоизученными.
В данной статье предлагается новая трактовка символов девушки-невесты, уже рассмотренных на восточно-славянском материале, а также выявленных в ходе изучения традиции донских казаков. Основу исследования составили опубликованные тексты свадебных песен [Листопадов, 1947; Тумилевич, 2012а], материалы этнографических экспедиций, проводившихся в местах компактного проживания донских казаков в 1980–2000-х гг., и периодической печати XIX в., собранные и недавно опубликованные нами [Донская свадьба, 2019].
Что касается основного метода исследования, то мы попытались не только соединить обрядовые практики и фольклорные тексты, но и соотнести те и другие с семейно-родственными отношениями, которые, по сути, были структурообразующими в традиционной свадьбе. В поисках определения сущности ключевого для девушек брачного возраста понятия «красота» мы предлагаем обратиться к концепту «доля», которая в русской народной традиции понималась широко: как жизненная сила, энергия, блага и подлежала постоянному переделу в обрядах жизненного цикла.
«Красота» и «сад»: образы и предметы
«Красота»: коса, лента, венок
В русской народной традиции понятие «девичьей красоты» применительно к группе девушек брачного возраста и невест имело ключевое значение и вместе с тем было окутано флером таинственности. Возможно, именно поэтому исследователям так и не удалось прийти к единству мнений в попытках выявить ее сущность.
В собранных нами донских материалах отсутствует название широко распространенного в общерусской традиции обряда расставание с красотой, однако само слово «красота» имеется в текстах свадебных песен. С этим образом в общерусской традиции связаны такие предметные символы, как коса, косная лента, венок, ветка дерева или другого растения, например, калины ( Viburnum opulus ), сосны ( Pinus sylvestris ) и др. Совпадали и обрядовые действия с этими предметами в момент обряжения невесты в донской и русской свадьбах: сначала выплеталась лента, затем следовала «продажа» косы; в некоторых местностях на голову девушки надевался венок из цветов и лент. Ветку (хоперские казаки называют ее «садом») украшали накануне свадьбы в доме невесты, а после брачной ночи переносили в дом жениха. Однако, если в русской традиции «сад» часто был связан с «красотой» [Бернштам, 1982, с. 43], то в традиции донских казаков нами это не зафиксировано, поэтому в данном разделе речь пойдет только о косе, ленте и венке.
Т.А. Бернштам считала возможным применительно к русской традиции рассматривать «красоту» (соотносимую с косой, лентой, венком и веткой дерева) в качестве личного знака невесты и, более того, как «одушевленную субстанцию девичьего “Я”, по сути – как душу девушки, которая, то умирая, то возрождаясь, претерпевает в обряде череду перевоплощений» [Там же, с. 66]. С.М. Толстая соглашается в принципе с этим утверждением, но добавляет, что «красота» соотносится одновременно и с душой девушки, и с ее девственностью, настаивая на особой значимости последней [Толстая, 2010, с. 151]. Тем не менее нам представляется, что поиски глубинного смысла понятия «красота» и связанных с ней предметов могут быть продолжены.
Девственность в донской традиции определялась словом «знатá» и понималась, конечно, как личное достояние девушки:
Да хоть она по ночам и ходила,
Да при себе знату носила, Да носила ж её столько лет, Да своему Ванюшке на совет [Местные слова..., 1875].
В другой песне в этом же контексте упоминается «красота» («Хучь и по ночам она ходила, / При себе красу носила…» [Листопадов, 1947, с. 109]), что подтверждает мнение Т.А. Бернштам и С.М. Толстой о том, что в народной традиции она соотносилась с личностью девушки и ее девственностью.
Вместе с тем, как и в общерусской традиции, «красота» в свадебных песнях донских казаков ассоциировалась с косой:
Гонится мой миленький всё за мною, За моею девичьей красотою, За моей за русою за косою
[Полевая запись Кубраковой В.С., 1992...].
Девичья коса в этом тексте также обозначается как личное достояние девушки и предмет вожделения жениха (в текстах другой песни «девичья красота» объявляется также причиной «молодецкой сухоты») [Листопадов, 1947, с. 27].
Некоторые качества совмещенного образа красоты-косы могут быть определены с помощью растительного кода. Так, в донской традиции известны народные названия растений: девичья красота (краса) и девичья коса . «Девичьей красотой» на Дону называлось декоративное растение космея ( Cosmos bupinnatus ), которо е отличается красивыми цветами и долгим периодом цветения («красива цвитетёть и ни-умалкаить, как девушка, цвиты у-ней разнаи»). «Девичьей косой» именовали дикорастущее и сорное растение с длинными стеблями – ясменник стелющийся ( Asperula prostrata) [Словарь…, 1975, с. 125].
Обратим внимание на то, что с косой-красотой ассоциировались два растения с разными характеристиками. Первое – декоративное, красиво и долго цветущее, второе – дикорастущее и сорное. Оба растения объединяет то, что от них не ждут плодов, они выращиваются с целью украшения сада/жилища и бывают востребованы только в период цветения, а сорные вообще подлежат удалению. Таким образом, как минимум еще одно качество «красоты» можно определить с помощью растительного кода – ее недолговременность.
Соотнесение косы девушки с сорной дикорастущей (дико-вольно растущей) травой открывает возможность для дальнейших построений и отсылает нас к понятию «воля», характеризующему состояние девушки до брака. В донских свадебных песнях в единый комплекс связывает косу, красу и волю и сама девушка:
Плакала Васильевна по своей косе: – Свет, моя волюшка, воля девичья, Свет, моя косушка, коса русая!
Была воля, была воля в роднова батюшки, Была коса, была краса в родной мамушки
[Листопадов, 1947, с. 31].
В песне, исполняемой на девичнике, «отвитие» ленты и расплетение косы описывается как одновременное умаление и воли («воля унимаетца»), и красоты («красота стираетца») [Там же, с. 30]. В ней вновь подчеркивается недолговременность «девичьей воли»:
Не на веки мне волюшка доставалася, – Во единый час девичья миновалася
[Там же, с. 31].
В исполняемой также на девичнике песне «Отходилась, отгулялась» речь идет о том, что девушка-невеста оставляет свою волю на попечение подружек («Поручаю вам, мои подруженьки, / Мою волюшку, мою девичью»), однако они должны лишь «примолвить» ее, после чего воля уйдет в чистое поле и падет в темных лесах [Там же, с. 30].
Обратим внимание на то, что понятие «воля» в русской народной традиции находится в связке (дихотомии) с понятием «доля»: девичья воля – бабья доля. Именно обретение девушкой своей доли и дальнейшее включение последней в общую долю нового родственного коллектива является кульминационным моментом свадебного обряда («сыр-каравай», «дары» в доме жениха). Все предшествующие обряды направлены на символическое уничтожение «вольного» (дикого) состояния девушки и ее «окультуривание». При этом происходило поэтапное отлучение девушки от родового коллектива и коллектива сверстниц. С последними, вероятно, связана лента-косоплетка.
Н.В. Зорин считал, что лента, скреплявшая (запиравшая) косу (волю) девушки, была основным знаком ее принадлежности к социально-возрастной группе. Для того чтобы перевести девушку в биосоциальную группу женщин, нужно было изъять ленту и расплести косу. Исследователь отмечал также, что ни коса, ни лента не переходили во владение покупателя; покупка лишь устраняла ленту и давала право на расплетение косы [Зорин, 2004, с. 117]. Однако мы предлагаем обратить внимание на то, что лента и коса в обряде «выкупа невесты» оказывались связанными с разными людьми: коса – с женихом, а лента – либо с девушками – подругами невесты, либо с сестрой невесты (т.е. родственницей по женской линии). Кроме того, лента (чаще всего красного цвета) в русской народной традиции, как отмечают исследователи, соотносилась с девичьими регулами и самой «красотой» (см., напр.: [Мадлевская, 2005, с. 163]). Следовательно, она должна была остаться у кого-либо из девушек (но никак не у жениха).
Cудьба косы и в обряде, и в текстах донских свадебных песен складывалась по-другому. Так, в ст-це Гун-доровской на Дону перед свадебным пиром между женихом и невестой начиналась борьба за косу. Невеста держала косу двумя руками, а жених с помощью свашек старался вырвать ее. Эту сцену загораживали от глаз публики большой шалью, которую держали дружко и его помощники, что со всей очевидностью свидетельствовало о сокровенной сущности происходящего. Непосредственно перед этим пели песню о том, как «русая коса» просит «сторожей» помочь ей спрятаться под каменной горой, а жених грозит найти ее и вытоптать конем:
Русая коса в обедне стояла, Она Богу молилась, Сторожам поклонилась: “Сторожи мои, сторожи, Сторожи государевы!
Сторожите меня, сторожи, Пока я, коса, схоронюся. Схоронюся я, коса.
Под каменную гору, С под каменной горушки – Месяцу под краюшки, Месяца с подкраюшки – Соколу под крылышки”. Алеша речь возговорит: “С под каменной горы Конем вытопчу, Месяца с под краюшек Я у Бога вымолю, Ясного сокола я стрелой убью”
[Попов, 1876].
Уничтожение косы в обряде (ее расплетение, раздробление) соотносится с мотивом уничтожения (распыления) «красоты» в других свадебных песнях. При этом красота «уходит» в чистое поле и лес (т.е. расточается в природе), а коса уничтожается женихом. В обоих случаях девичья воля уничтожалась, и это, с нашей точки зрения, был акт, необходимый перед обретением доли.
Что касается такого символа девичества, как венок из цветов и веток, то в описаниях свадебной обрядности донских казаков нам не приходилось фиксировать особых действий с ним (вариант названий - святки ), хотя имеются его описания: «Венок надевали: фата марлевая, цветы и ленты… Эти ленты, их щас нет, таких лент-то. Щас нейлон да капрон, а тада просто ленты всякие. И цветы бумажные, и ленты – красные, желтые, зеленые – длинные…» [Полевая запись Шапкиной Р.В. 1997…].
Т.А. Бернштам отмечала, что в русской и украинско-белорусской свадьбе венок не отождествлялся ни с косой, ни с девичьей «красой» [1982, с. 51], однако в донской свадебной песне речь идет о девушке, которая носит свою красу при венке:
При себе красу носила, – При шалковому поясу, При тьвятковому при венку
[Листопадов, 1947, с. 109].
Таким образом, «красота» понимается и как воля, и как девственность, и как красота. В донских фольклорных текстах она предстает как некое обобщенное качество девушки, готовящейся к браку. Что касается косы, ленты и венка, то они могут трактоваться в первую очередь как символы разных проявлений (признаков) «красоты» и лишь во вторую – как личные знаки девушки. В ходе свадебного обряда девушка лишалась сначала воли, потом девственности и красоты, а вместе с этим либо уничтожались, либо переходили к другим участникам свадьбы предметы, символизировавшие их.
«Красота» – «сад»?
Исследователи часто называют одним из символов девичьей «красоты» в русском свадебном обряде специально приготовленное украшенное растение (репей, ветка сосны, березы и пр.) – «сад». Н.В. Зорин, рассматривая материалы среднерусской свадьбы, обратил внимание на совпадение времени и места функционирования ленты-косоплетки и деревца-сада и на основе данного наблюдения сделал вывод о том, что на свадьбе использовались одновременно оба символа «красоты», они выполняли близкие функции, но не заменяли друг друга. По его мнению, украшенная ветка только в XIX в. стала восприниматься как символ девушки-невесты (собственно «красоты»). Исследователь указывал, что первоначально она была символом группы девушек брачного возраста, в которую входила невеста, и ссылался на то обстоятельство, что именно девушки обряжали ветку (или репей), навязывали на нее свои ленточки, они же и продавали ее [Зорин, 2004, с. 118]. Однако Н.В. Зорин не обращался к анализу фольклорных текстов, содержащих описание «сада». Меж тем в текстах свадебных песен (в т.ч. в песнях донских казаков) девушка называет «сад» не только своим («мой сад»), но и «батюшкиным-матушкиным». В тех текстах, в которых упоминаются подруги, фигурирует не «сад», а «садочки зеленые» – во множественном числе. Уже только эти замечания мешают безоговорочно принять версию Н.В. Зорина.
Отметим, что существуют и другие трактовки «сада». Так, по мнению Т.А. Бернштам, «сад» фольклорных текстов – это место рождения и смерти девичьей души. В свадебном обряде предметным воплощением фольклорного «сада», с точки зрения исследовательницы, был стол (посад) [1982, с. 58–63]. С.М. Толстая высказала мысль о том, что многообразие цветов и плодов в «саду» могло символизировать множественность возможных воплощений души девушки (она превращается в дерево, цветок, птицу и т.д.) [2010, с. 158–159]. А.К. Байбурин также соотносил деревце (или ветку) с «красотой» невесты, считая, что подготовка такого деревца к обряду символизировала начало процесса отделения «красоты» от невесты [1993, с. 68].
Прежде чем принять или опровергнуть эти суждения, обратимся к описаниям «сада», представленным в свадебных песнях донских казаков. Вновь акцентируем внимание на обилии в «саду» разных растений. В нем растут пахучие васильки, кучерявая гвоздичка, душистая мяточка, зеленая (полевая) вишенка, калина-малина, спелый виноград, сладкая черешенка, елка-сосенка и пр. Сад как сосредоточение в одном месте многого, действительно, мог быть символом множественности возможных воплощений души девушки (мнение С.М. Толстой). Не исключено, однако, что эта множественность была также отражением различных качеств девушки-невесты: красный цвет калины-малины – символ ее крови, колючесть елки – символ невинности и готовности к «любовной битве» и т.д. Кроме того, наличие в «саду» разных пород деревьев, видов цветов и трав, а также птиц может свидетельствовать в пользу определения его как символа коллективной (родовой, женской) доли. На это указывает и то обстоятельство, что «сад» после ухода невесты из своей семьи остается у ее матери:
Жалко мне, моя мамонька, всё тебе, – Отдаешь ты свою дочушку от себе; Остаютца тебе тьветики все мои, Остаютца да-й пахучие васильки, Желтая, кучерявая гвоздичка, Свежая да душистая мяточка
[Листопадов, 1947, с. 32].
В текстах песен девушка просит мать после ее ухода из дома поливать «сад» «горючей слезою». Показателен и запрет, наложенный матерью: дочери нельзя возвращаться в «сад» до истечения семи (в одном из вариантов – трех) лет:
Не велела маменька
Семь лет а мне не бывать.
На первом годочике Я так прожила.
На втором годочике Стыскавалася.
А на третим годочике
Я пташкой полечу.
Прилячу я в зелен сад, Чижало вздохну…
[Полевая запись Порвина В. 1992…].
В другом варианте этой песни дочь приезжает к матери на четвертый год и видит, что в саду ее «стежки-дороженьки» заросли травой. В этих и других текстах мать выступает хранительницей девичьего «сада». Не случайно в свадебном обряде именно мать невесты наказывали, если последняя оказывалась «нечестной». Но тогда вряд ли речь должна идти о «саде» как о месте перевоплощения души (Т.А. Бернштам) или коллективной доли-воли группы девушек (Н.В. Зорин). Вполне возможно, «сад» символизировал женскую семейную (родовую) долю, от которой отделялась часть (доля) дочери-невесты (деревце или ветка):
Там ехали бояре, московские дворяне.
Стали думати, гадать, Стали грушицу рубать…
[Листопадов, 1947, с. 27].
В донских свадебных песнях предбрачное состояние девушки описывается как осыпание цветов, сама она предстает сломленной веткой:
Уж ты сад, ты мой сад, Сад молоденький.
Что ж ты рано цветёшь, осыпаешься
Паследний разочик па садику хадила, С любимай ябланьки виршочик сламила. Расти, мая ябланька, да весь век ты бис виршочка, Живи, ты, маминька, весь век биз миня
[Полевая запись Рыбловой М.А. 2001…].
В другой свадебной песне вхождение невесты в предбрачное состояние описывается как заламывание «золотой верхушечки» елки-сосны [Попов, 1876]. В песне казаков-некрасовцев девушка рассказывает, что ее «ёлушку» срубили «в три топора» и сделали из нее весла и лодку, на которой ее и увозят [Тумилевич, 2012б, c. 157]. Сломленная макушка цветущего дерева или срубленное дерево выступают символами потравы и убытка (умаления общей доли), которые отражают состояние, предшествующее обретению девушкой нового статуса.
Интересно, что девичий сад до времени его потравы предстает в свадебных песнях не только как цветущий, но и как золотой или серебряный (золотая верхушка елочки, золотые шишечки и пр.). Этими же качествами обладают и девушки брачного возраста: они но сят серебряные и золотые колечки, которые приходят на смену медным. Однако непосредственно перед свадьбой они теряют позолоту и цвет:
Красная Аннушка, Красная Михайловна Во тереме сидела, Сердечком унывши, Ручки опустивши, Перстенёчки обронивши. – Братец мой, Филюшка, Братец мой родимый! Подбери перстенёчки, Ты надень их на ручки, Чтоб они не валялися, Золото не маралося, Серебро не стиралося, Алексеюшке не досталося
[Попов, 1876].
Обратим внимание на то, что ленту (в обряде) или «тветик» (в песне) невеста передает младшей сестре, а золотые и серебряные перстни – брату, т.е. оставляет и то, и другое в своем роду. В другой песне девушка накануне выданья отдает батюшке золотые ключи со словами: «Вот тебе, батенька, золотые ключи, / Я тебе, батенька, уже не ключница» [Там же]. Ключи в этой переходной ситуации связаны с мотивом «замыкания», т.е. прекращения не только прежнего состояния девушки (девичества), но и прежних родственных отношений. Однако для нас здесь важно то, что накануне перехода девушка-невеста остается ни только без ключей, но и без золота, а также соотносит себя с засохшей/сломленной веткой. Все эти образы символизируют ее умирание.
Рассмотрев образ «сада», представленный в свадебных песнях и относящийся чаще всего ко времени до брачной ночи, обратимся к обрядности второго дня свадьбы (после брачной ночи), в которой фигурирует предметный символ «сада». Это могла быть ветка калины, вербы, вишни (у низовых казаков), сосны или елки (у верховых). Так, в станицах по Хопру и Бузулуку на второй день свадьбы в доме невесты (обычно силами ее матери и других родственников) украшали лентами и сладостями сосновую или еловую ветку, которая называлась «сад» (в некоторых поселениях – «курник » ) . Затем «сад» переносили из дома невесты в дом жениха. Уже в это время родственники жениха пытались разорвать ветку на части, им препятствовала сторона невесты. Информанты отмечали, что «умные гости» позволяли донести ветку в сохранности до дома жениха. И лишь там родственники со стороны жениха разрывали «сад» на части и делили между собой: «На второй день сосну наряжали. С садом ходили. Сосну убяруть – там бутылки, конфетки, печенье, кренделя – вот как украсят. Сосна – большая ветка, ёлочка. Несуть её к воротам. Наряжають невестины родители и родственники. Когда утром молодые при-дуть, позовуть на похмель, то это называется “сад уберут”. И в блюдо накладут закусочки, там всё, гостинчики. Тода, значить, несуть, и подходит невестина родня с этим садом. А жанихова хватають, лезуть, рвуть эти гостинцы. А там идуть, охраняють, чтоб молодые первые сорвали. А тут часто всё порвуть, поло-мають, и всё раскидають, не дадуть. Иногда пошутять и всё. А какой напьется, он её обломает и всё. А когда принясуть, становят на стол – молодые отрывають. А потом все её срывають, всё разобрали – до дела довели» [Полевая запись Сорокиной Е.Г. 1997…].
В этом и других описаниях важны указания на то, что «сад» изготавливали родственники невесты (обычно мать), а «разорить» его (разорвать на части, разделить между собой) пытались представители родни жениха, а также сами молодые.
Обратим внимание также на то, что в обряде до брачной ночи происходило поэтапное символическое разрушение невесты (лишение воли, девственности, красоты), умаление ее жизненных сил (засыхание «сада», осыпание позолоты и пр.), а после – «собирание», воспроизводилось возрождение и новое цветение не только в новом качестве, но и в ином «составе». Так, в тех поселениях, где не было принято обряжать деревце, каравай украшали ветками, напоминающими сосновые. Их вставляли в середину каравая и подвязывали красной лентой. Когда начиналось подношение даров, каждому дарителю предлагали кусочек такого каравая и ветку. Имеется описание каравая (он выпекался в станицах нижнего Дона), близкого к фольклорному образу «сада»: «имеет вид круглой булки с вершиною, украшенной позолотою; в него втыкаются длинные тонкие палочки, которые спиралью обвиваются узенькими зазубренными полосками теста; концы палочек украшаются фигурами птиц, солнца, месяца и т.п.» [Аврамов, 1875]. Присутствующих на свадьбе (на второй день) одаривали булочками, которые назывались «шишки», иногда их верхушки «золотили». В конце XX в. во время экспедиций в казачьих поселениях на среднем Доне мы фиксировали упрощенные варианты свадебных караваев: с веточками, но без фигурок светил и птиц. В качестве веточек могли служить палочки с накрученными «зубчатыми» («игольчатыми») полосками теста. Иногда к верху палочки привязывалась конфета (замена «птички»).
В низовых станицах на второй день свадьбы (после брачной ночи) дружко (представитель рода жениха) разрезал каравай с золотой верхушкой на части и одаривал ими гостей во время исполнения песни, в которой также упоминались серебряные и золотые предметы:
Дружко каравай краит;
Золотой ножик мает; Золотые череночки, На серебряной тарелочке [Там же].
Одаривание гостей кусками каравая и получение ответных даров были символами включения жизненной силы невесты в общую долю нового родственного коллектива. Таким образом, «сад» в виде деревца, символизировавший долю – жизненную силу невесты, переставал существовать в качестве самостоятельного образа и на второй день свадьбы воплощался в образе нового «сада» – каравая, обновленного, с золоченой верхушкой. Разрезание каравая и раздача шишек символизировали новый передел общей доли, но теперь в нем участвовали все родственники – и жениха, и невесты. Возвращалось золото и самой невесте (молодой): в одной из свадебных песен речь идет о кузнице и молодых ковалях, которые куют и льют новый (венчальный) перстенек для Аннушки [Попов, 1876]. (Отсюда же и кузнецы в группе ряженых на второй день свадьбы, которые «выковывают» новых молодых.) В поздней традиции главными металлическими символами нового статуса станут золотые церковные венцы (на время венчания) и обручальные кольца.
К символам невесты следует отнести также предметы, связанные с образами птиц – лебедушки, уточки, курицы. Орнитоморфная свадебная символика не рассматривается в данной статье ввиду ограниченности объема, однако мы не можем обойти вниманием предметы-символы, которые фиксируют определенные личные качества или состояния девушки-невесты, например, ее семейное положение: сирота, имеет одного родителя или обоих: «Если у невесты родите- ли живы, под фатой у ней коса, заплетенная до конца. Если жив отец или только мать – до половины. Если круглая сирота – то завязывается хвост» [Полевая запись Рыбловой М.А. 1984…].
Особое внимание в свадебной обрядности уделялось проверке и оглашению того, как и чем закончилась брачная ночь. Если невеста не сохранила целомудрия до свадьбы, об этом символически оповещали всех присутствующих разными способами и с использованием разных предметов: ей клали на стол дырявую ложку, разбивали об пол дырявый горшок, «гоняли по двору худое ржавое ведро» и пр., т.е. использовали предметы, имеющие т.н. пронимальную символику. Символами «правильно» прошедшей брачной ночи были ягоды и ветки калины, а также мед, хорошо известный как один из символов доли (ср. коллективное распитие меда казаками на пирах- братчинах ). В некоторых донских станицах пучки калины вместе с сотовым медом клали на блюдо и ставили на стол, на котором до этого находился каравай [Поляков, 1875].
Обсуждение результатов
-
1. Предметы-символы, которые исследователи обычно относят к личным знакам девушки, свидетельствующим о достижении ею брачного возраста, или к символам ее души (коса, лента, венок), на наш взгляд, могут трактоваться как материальное воплощение основных признаков-характеристик обобщенного понятия «красота»: воли и девственности. Во время свадебного обряда девушка лишалась этих качеств, а символизировавшие их предметы либо уничтожались, либо переходили к другим. Последнее было связано с выходом невесты из группы девушек брачного возраста, находившихся с ней в своеобразном духовном родстве. Именно подругам невеста передавала красную ленту-косоплетку (связанную с мотивом крови) во многих вариантах русского свадебного обряда, однако в донской традиции чаще фиксируется передача ленты младшей сестре невесты. Складывается впечатление, что девичья «красота» соотносилась не только (и не столько) с «душевной субстанцией девичьего “Я”», сколько с ее телесностью, или тем, что на современном языке может быть обозначено как психосексуальность – нуждающаяся (по народным представлениям) в ограничении и введении в культурное русло.
-
2. В свадебном обряде наряду с концептом «воля» отчетливо проявляется и концепт «доля», применительно к невесте воплощенный в образе «сада» и его части (деревце, ветка). В ходе всего длительного свадебного обряда происходило не только отлучение девушки от группы девушек-подруг, но и поэтапное разрывание ее родовых связей, лишение ее доли в семье (символическая смерть), после чего следовало новое
-
3. Предложенная Н.В. Зориным классификация может быть дополнена символами невесты, которые отражали ее определенные личные качества и состояния. В первую очередь это ее связь с умершими родственниками (сирота; имеет одного из родителей). Совершенно не случайно именно волосы девушки (как одно из вместилищ жизненной силы) маркировали ее связь с умершими родственниками, что, в свою очередь, должно было определять и их «долевое» участие в обряде. Поскольку в русской народной свадьбе вообще ярко выражен мотив присутствия «мертвых родственников», предков (например, в виде ряженных), наличие предметов-символов той или иной связи невесты с ними представляется вполне закономерным опять же в контексте родовой доли, в новом переделе которой должны принять и живые, и умершие.
рождение, связанное с выделением новой доли – доли замужней женщины в новом роду. Предметные символы невесты фиксировали и маркировали происходящие с ней изменения: цветущий сад – сломанная ветка, засохшее дерево – новый сад с золоченой верхушкой, золотые предметы.
Вывод Н.В. Зорина о том, что соотнесение «сада» с «красотой» невесты в обряде произошло относительно недавно, можно распространить на соотнесение «сада» с группой девушек – подруг невесты. Вполне можно предположить, что первоначально «сад» был связан с родом невесты (и его общей долей), а наряженное деревце (или ветка) являлось символом отделения девушки от семьи-рода и выделения ее (индивидуальной) доли. Во всяком случае, в донской свадьбе (и в текстах песен, и в обрядах) «сад» всегда связан с матерью невесты – хранительницей и распределительницей общеродовой доли.
Что касается предметов, указывающих на состояние девственности невесты до брачной ночи, то в донской казачьей свадьбе и в общерусской традиции они практически не различались.
Заключение
Анализ материалов свадебной обрядности донских казаков показал, что символы девушки-невесты являлись отражением изменений, касавшихся не только ее как личности, но и ее положения среди собственных родственников и среди родственников будущего мужа. Все эти изменения были связаны с волей, душой и девственностью невесты, а также с ее долей – частью жизненной силы и благ, выделяемых в ходе обряда невесте из общесемейной/родовой и вновь включаемых в общую долю новой семьи. И если такие символы собирательного образа «красоты», как коса, лента и венок соотносились с личностью девушки-невесты, то «сад» и ветка – с семейной (родовой) до- лей, изменения которой происходили вместе с перемещением невесты из одного родственного коллектива в другой. Главной хранительницей и распорядительницей семейной доли в стане родственников невесты выступала ее мать, что лишний раз подчеркивало инициационный характер свадебного обряда применительно к девушке-невесте.
Таким образом, поиск смыслов предметных символов девушки на материалах свадьбы донских казаков позволил вскрыть глубинные пласты этого обряда, связанные с межродственными отношениями в контексте ключевого для русской народной традиции понятия «доли».
Исследование выполнено в рамках реализации государственного задания ЮНЦ РАН на 2020 г. (№ 01201354248).
Список литературы Предметные символы девушки-невесты в донской казачьей свадьбе
- Аврамов. Свадебные обычаи в одной из станиц Черкасского округа. Этнографический очерк // Дон. обл. вед. – 1875. – № 51.
- Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов. – СПб.: Наука, 1993. – 240 с.
- Бернштам Т.А. Обряд «расставания с красотой» (К семантике некоторых элементов материальной культуры в восточнославянском свадебном обряде) // Памятники культуры народов Европы и европейской части СССР / под ред. Т.В. Станюкович. – Л.: Наука, 1982. – С. 43–66.
- Гревцова Т.Е. Донские наименования обрядового хлеба первого дня свадьбы на восточнославянском фоне // Современная русская лексикология, лексикография и лингвогеография. 2013 / отв. ред. О.Н. Крылова. – СПб.: Нестор-История, 2013. – С. 81–91.
- Гревцова Т.Е. Лексика заключительных дней свадьбы у хоперских казаков // Филологическая регионалистика. – 2017. – № 3 (23). – С. 11–27.
- Гура А.В. Брак и свадьба в славянской народной культуре: семантика и символика. – М.: Индрик, 2011. – 936 с.
- Донская свадьба. – Волгоград: Изд-во Волгоград. ин-та управления – филиала РАНХиГС, 2019. – Вып. 1: Материалы архивов и публикаций XIX в. / сост., авторы коммент. и примеч. М.А. Рыблова и А.В. Когитина. – 224 с.
- Зорин Н.В. Русский свадебный ритуал. – М.: Наука, 2004. – 248 с.
- Колесницкая И.М., Телегина Л.М. Коса и красота в свадебном фольклоре восточных славян // Фольклор и этнография: Связи фольклора с древними представлениями и обрядами. – Л.: Наука, 1977. – С. 112–122.
- Листопадов А.М. Старинная казачья свадьба на Дону. – Ростов н/Д: Ростов. обл. книгоизд-во, 1947. – 120 с.
- Мадлевская Е. Девичья красота // Мужики и бабы. Мужское и женское в русской традиционной культуре: иллюстр. энцикл. – СПб.: Искусство-СПБ, 2005. – С. 162–168.
- Местные слова и выражения, употребляемые на Дону // Дон. обл. вед. – 1875. – № 10.
- Полевая запись Порвина В. 1992 г. в ст-це Алексеевской, Волгоградской обл. // Личный архив В.С. Кубраковой.
- Полевая запись Кубраковой В.С. 1992 г. в ст-це Алексеевской Волгоградской обл. Инф. Копылова А.С. 1913 г.р. // Личный архив В.С. Кубраковой.
- Полевая запись Сорокиной Е.Г. 1997 г. в ст-це Тепикинской Урюпинского р-на Волгоградской обл. Информант Шаляпин Николай Павлович, 1920 г.р. // Личный архив М.А. Рыбловой. – (Материалы этнографической практики студентов-регионоведов ВолГУ 1997 г. / научн. рук. М.А. Рыблова. Тетр. № 3).
- Полевая запись Рыбловой М.А. 1984 г. в хут. Озерки Иловлинского р-на Волгоградской обл. Инф. Антонова Т.И., 1918 г.р. // Личный архив М.А. Рыбловой. Полевая запись Рыбловой М.А. 2001 г. в хут. Плотникове Даниловского района Волгоградской обл. // Личный архив М.А. Рыбловой.
- Полевая запись Шапкиной Р.В. 1997 г. в ст-це Тепикинской Урюпинского р-на Волгоградской обл. Информант Летягина Зинаида Ивановна, 1935 г.р. // Личный архив М.А. Рыбловой. – (Материалы этнографической практики студентов-регионоведов ВолГУ 1997 г. / научн. рук. М.А. Рыблова. Тетр. № 5).
- Поляков. Старинная донская свадьба // Дон. обл. вед. – 1875. – № 22.
- Попов Е. Из быта донецкого станичника. Народная свадьба в станице Гундоровской. Этнографический очерк // Дон. газета. – 1876. – № 100.
- Проценко Б.Н. Свадебный обряд донских казаков во времени и пространстве // Традиционная культура: на-учн. альманах. – 2004. – № 4 (16). – С. 26–34.
- Рудиченко Т.С. Особенности свадебного ритуала казачьих поселений юга Донецкого округа (по экспедиционным материалам) // Итоги фольклорно-этнографических исследований этнических культур Кубани за 1999 год : мат-лы регион. науч.-практич. конф. Дикаревские чтения (6), ст-ца Крепосная Краснодарского края, 14–16 мая 1999 г. / ред.-сост. О.В. Матвеев, М.В. Семенцов. – Краснодар: Кубанькино, 2000. – С. 91–95.
- Словарь русских донских говоров: в 3 т. – Ростов н/Д: Изд-во Ростов. гос. ун-та, 1975. – Т. I. – 200 с.
- Толкачева С.В. Символика ритуального перехода невесты в русском свадебном песенном фольклоре Удмуртии // Вестн. Удмурт. гос. ун-та. История и филология. – 2013. – Вып. 4. – С. 135–141.
- Толстая С.М. Мотив расставания с волей/красотой в северно-русской свадебной причети: поэтика и мифология // «Уведи меня, дорога»: сб. памяти Т.А. Бернштам. – СПб.: МАЭ РАН, 2010. – С. 151–160.
- Тумилевич Ф.В. Свадебный обряд у казаков-некрасовцев // Казаки-некрасовцы: язык, история, культура: сборник научных статей / отв. ред. акад. Г.Г. Матишов. – Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2012а. – С. 36–72.
- Тумилевич Ф.В. К вопросу о поэтике песен казаков-некрасовцев // Казаки-некрасовцы: язык, история, культура: сборник научных статей / отв. ред. акад. Г.Г. Матишов. — Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2012б. – С. 141–187.