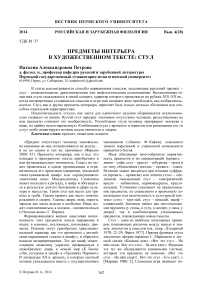Предметы интерьера в художественном тексте: стул
Автор: Петрова Наталия Александровна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 4 (28), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются способы наращивания смыслов, наделяющие реальный предмет - стул - символическими, архетипическими или мифологическими коннотациями. Неоднозначная семантика стула складывается в некий концепт, характер которого проявляется на рубеже XIX-XX вв., когда интерпретация устоявшихся смыслов и игра ими начинает явно преобладать над изобразительностью. Стул, как и другие предметы интерьера, перестает быть только деталью обстановки или способом социальной характеристики. Исключительность «стула» как места для одиночного сидения оборачивается исключенностью сидящего из жизни. Пустой стул передает «значимое отсутствие» человека; расположенные на нем предметы означают его необратимость. Уподобление стула человеку превращает человека в вещь, но крайне недолговременную. Комбинация стула с кроватью и зеркалом или размещение его «в углу» особо акцентируют мотивы недолговечности и смерти.
Предмет, семантика, концепт
Короткий адрес: https://sciup.org/14729338
IDR: 14729338 | УДК: 81'37
Текст научной статьи Предметы интерьера в художественном тексте: стул
«Предмет сопутствует человеку изначально, но внимание на нем останавливается не всегда… и не по одним и тем же причинам» [Фарыно 2000: 45]. Предметы интерьера, как и все, что попадает в пространство текста, приобретают в нем функциональную значимость. Смысл их может проявляться в одном произведении и ограничиваться его пределами (например, чеховский «многоуважаемый шкаф» или «проснувшаяся» «цветочная ваза» Мандельштама). Семантика может восходить к ритуалу, к мифу и обогащаться в результате долгого бытования в сфере культуры и искусства. Таков стол как место для трапезы и гроба. Такова кровать как место зачатия, рождения и смерти. Таковы двери, окна, пороги, зеркала как места выхода в инобытие. Вещь может очеловечиваться, а человек – овеществляться («Человек-вещь» Г. Паризе).
Формировавшаяся веками смысловая наполненность этих предметов нашла выражение в языке: в идиомах, пословицах, поговорках, приметах. Идиомы могут приобретать транснациональный характер, как это произошло с английским выражением «скелет в шкафу», и обрастать новыми интерпретациями. Тот же шкаф может, сохраняя семантику укрытия, превращаться в своеобразную дверь в новый мир (К. Льюис «Лев, колдунья и шкаф» в «Хрониках Нарнии»). В литературе ХХ в. кровать, в которую частный человек укладывается вместе с государственным чиновником («Замок» Ф. Кафки), становится знаком поруганной и утраченной возможности приватного бытия.
Язык обыгрывает многообразную вариативность предметов и их наименований (кровать – диван – софа; стул – кресло – табуретка – трон) и по типу обозначения (постель – кровать – ложе). Различие может вводиться при помощи суффикса (кровать – кроватка) или эпитета (стол – обеденный, письменный; стул – электрический; кресло – кабинетное, парикмахерское, кресло-качалка). Уточнения указывают на предназначение предметов, их социальную и временную локализацию или включенность в культурный контекст (стол – круглый, стул – венский, шкаф – славянский). Значение имеют как местоположение предмета (у стены, в углу, в центре, у окна, у двери)1, так и комбинаторика упоминаемых предметов, порождающая новые смыслы.
Стул – один из наиболее популярных примеров, поясняющих различие между вещью и знаком, денотатом и смыслом (см., напр.: [Сахарный 1978: 22–29; Фреге 1977]. Прямая функция стула лаконично сформулирована С. Маршаком в детской сказке «Кошкин дом»: «Вот это стул – На нём сидят. Вот это стол – За ним едят». Функция эта тут же обыгрывается кошкиными гостями, которым эти предметы не знакомы: «Вот это стол – На нём сидят!.. Вот это стул – Его едят!..» [Маршак 1980: 2]. Словесная игра начинает по-
рождать новые смыслы. В истории культуры этот процесс осуществляется постепенно.
Стул как «утварь для одиночного сидения» [Даль 1982: 348] изначально свидетельствовал об особом статусе восседающего на нем объекта. Ему противостояли лавки – предметы коллективного пользования. В изобразительном искусстве Древнего Египта и Древней Греции стул присутствует в виде трона правителя или табурета для его высокопоставленных подчиненных (курульное кресло); долгое время стул носили за его владельцем2. В Западной Европе существовало право сидеть в присутствии короля, или «право табурета». Ко времени В. Даля он уже стал «домашней утварью».
Комплекс представлений, связанных с образом стула, проступает в пословицах: временность («На посул, что на стул, посидишь, да и встанешь»); необоснованность надежд («Посулы на золотом стуле»); безвыходность положения («Сесть стулом в тупик»); тождество тела и стула («То-то голова только туловище заняла, а как бы ее сбил, так бы стул был!») [Даль 1982: 348, 358]. К этому можно добавить неустойчивость положения (падать со стула от смеха или удивления; сидеть между двух стульев) [Даль 1982: 348]3 и некоторый демонизм (скала Чертов стул у Э. По в «Извержении в Мальстре»; «Черта в стуле! Разве я Мафусаил?» в «Потомках» Саши Черного; «Черта в стуле! не езда – а наказанье» в «Ужасной фамильярности» В. Маяковского)4.
Понятие стула покрывает все виды «одиночного сидения», от престола до колоды, к которой приковывали заключенных («сажали в стул»), плахи для рубки мяса [Даль 1982: 348] и электрического способа казни. Оно подразумевает не только предмет, но и физиологическое явление5.
В сфере искусства неоднозначная семантика стула складывается в некий концепт, характер которого проявляется на рубеже XIX–XX вв., когда интерпретация устоявшихся смыслов и игра ими начинают явно преобладать над изобразительностью. Стул, как и другие предметы интерьера, перестает быть только деталью обстановки или способом социальной характеристики.
Хрестоматийная фраза Городничего в гоголевском «Ревизоре» рождается из внятного бытового контекста, где стул сохраняет свою предметность («Сбежал с кафедры и, что силы есть, хвать стулом об пол» [Гоголь 1959: 13]). Его буквальный повтор в «Униженных и оскорбленных» Достоевского или чеховской «Скуке жизни» в ситуациях, когда стул и какие-либо манипуляции с ним отсутствуют, выявляет иносказательность устоявшегося фразеологизма. В стихотворении Мандельштама «Домби и сын» «сломанные стулья» становятся знаками превышения меры, краха и смерти [Мандельштам 1990: 92].
Так образ стула начинает перерастать в символ, чему способствуют повторяющиеся мотивы, со временем приобретающие отчетливо сознательный характер.
В повести А. Апухтина «Между смертью и жизнью», построенной на идее реинкарнации, особое внимание оказывается стулу, который слуга приносит и ставит «в дальний угол залы», чтобы поспать во время ночного бдения около умершего хозяина. Потом на этот стул, покинутый слугой, садится «маленький желтый сенатор» – оба они уже близки к смерти [Апухтин 1985: 488, 494]. В повести Л. Толстого «Смерть Ивана Ильича» один из друзей покойного садится «на расстроившийся пружинами и неправильно поддавшийся под его сиденьем низенький пуф», прежде чем его успевают предупредить, «чтобы он сел на другой стул». Не «тем» кажется Ивану Ильичу стул, на который он кладет ноги для облегчения своего состояния («подвинь мне, пожалуйста, стул этот. Нет, вот этот...» [Толстой 1946, 2: 104, 132].
В «Рождестве» Набокова герой с говорящей фамилией Слепцов, готовый покончить с собой, но прозревающий по свершении «чуда», садится сначала в «угол, на низкий плюшевый стул, на котором он не сиживал никогда», и угол этот – «нежилой» [Набоков 1991б: 111] (и у Л. Толстого есть «другой угол», в который Иван Ильич думает передвинуть «весь этот «etablyssement» с альбомами). Такого рода повторы показывают, что в «одиночном сидении» исключительность оборачивается исключенностью из жизни, что и подчеркивает статика поз, запечатленных надгробными памятниками [Арьес 1992: 127, 169]. В искусстве XX в. образ «стула», особенно стоящего в углу, начинает ассоциироваться с топикой смерти, временности бытия («В углу на плюшевом стуле хозяин сидел, словно в приемной у доктора»), двойничества, вины и наказания.
Комбинация стула с кроватью и зеркалом особо акцентирует эти смысловые оттенки, кон-нотирующиеся с мотивами смерти: «Спрошу я стул, спрошу кровать…(«Вчера еще в глаза глядел…» М. Цветаевой); « Проснусь, и в темноте, со стула, где спички и часы лежат, в глаза, как пристальное дуло, глядит горящий циферблат»; «Стул. На стуле он сам. На постели – снова он. В бездне зеркала – он» [Набоков 1991б: 226, 275]. «За зеркалом, в кровати, в спинке стула…» («Большая элегия Джону Донну» И. Бродского). Образ стула может маркировать и момент духовного перерождения: «Вошла со стулом, Как с полки жизнь мою достала И пыль обдула…» [Пастернак 1965: 118].
Не менее популярны интерпретации фольклорного уподобления стула телу, вполне определенному, имеющему внешнюю характерность и имя, или абстрагируемому и означающему при- сутствие или истечение жизни: «Сутулится на стуле беспалое пальто. Потемки обманули, почудилось не то. Сквозняк прошел недавно, и душу унесло в раскрывшееся плавно стеклянное число… В хрустальнейшем застое в отличнейшем Ничто, а в комнате пустое сутулится пальто» [Набоков 1991б: 255]6.
Накинутая на стул или лежащая на стуле одежда чаще всего замещает человека. В стихотворении О. Мандельштама «Медлительнее снежный улей…» «бирюзовая вуаль», которая «Небрежно брошена на стуле», репрезентирует кратковременность человеческого существования («трепетание стрекоз»). В «Даре» Набокова голубоватое платье, брошенное на стуле, предвещает появление возлюбленной.
Эта же семантика присутствует в изобразительном искусстве ХХ в., где самые известные образы стульев принадлежат Ван Гогу, написавшему две «довольно странные», по его собственным словам, картины: свой желтый стул и красное с зеленым кресло Гогена. Стул – дневной, «простодушный и откровенный», кресло – ночное, надменное. Положение трубки с кисетом – на краю кресла – неустойчиво. Стулья передают ощущение оставленности: «…я пытался написать его ”пустое место”… Этот этюд его кресла коричневато-красного дерева с зеленоватым соломенным сидением; на месте отсутствующего – зажженная свеча и несколько современных романов…», – писал Ван Гог к А. Орье о «Кресле Гогена» [Ван Гог 1996: 581].
Предметы, расположенные на стуле, передают «значимое отсутствие» человека, репрезентируют его и порождают более общую, мифологическую, семантику. Так, свеча на «разрисованном по образу лучистого солнца сидении кресла» Гогена превращает его в культовый алтарь [Бобрик 2002: 581]. Трубка, лежащая на стуле Ван Гога, по ассоциации с его знаменитым автопортретом становится его мифологическим аналогом. Сидящий на стуле старик, с лицом, закрытым руками, на картине Ван Гога «У врат вечности» представляет собой и отдельного человека, и всякого, со смертью теряющего свою индивидуальность. Так и на картине А. Шевченко «Натюрморт со стулом» (1936) венский стул расположен у дверного косяка, но вынесенность его наименования в название картины и «срединная позиция» в композиции трансформируют его в алтарь.
Кульминацией проблематики, связанной с образом стула, и демонстрацией нового типа отношения к предмету является стихотворение И. Бродского «Посвящается стулу». Стул отмечен в разговорах Бродского как привычная идиома («Я чуть не упал со стула!» [Волков 2000: 234]); как знак исключительности момента и положения («Из тех лет у меня сохранилось другое яркое воспоминание – мой первый белый хлеб, первая французская булочка, которую я укусил. Война недавно кончилась. Мы были у маминой сестры, у тетки моей – Раисы Моисеевны. И где-то они раздобыли эту самую булочку. И я стоял на стуле и ел ее, а они все смотрели на меня»); как объект, замещающий человека («Роль поэта в человеческом общежитии – одушевлять оное: человеков не менее, чем мебель. Какая первая и главная реакция, если что-то против шерсти? Если стул не нравится – вынести его вон из комнаты! Человек не нравится – выгнать его к чертовой матери!») [Бродский 1999: 31].
В прозе Бродского стулья оказываются по-человечески уязвимы и жертвенны («За этими величественными выщербленными фасадами, среди старых пианино, вытертых ковров, пыльных картин в тяжелых бронзовых рамах, избежавших буржуйки остатков мебели (стулья гибли первыми) – слабо затеплилась жизнь») [Бродский 1999: 9]. Внутренний мир репрезентируется посредством предметного: «Убеждения – это твой дом, твой главный комфорт; ты копишь всю жизнь, чтоб его обставить… Если этот мир был богат фактурой, то воображаемый декор твой будет черно-белым, с несколькими абстрактными стульями» [Бродский]. Чаще всего образ стула ассоциируется с мотивом смерти; так, Бродский пишет о своих родителях: «Застать сидящими их, конечно, можно было во время еды, но чаще всего я помню мать на стуле, склонившуюся над зингеровской швейной машинкой…. Отец же сидел, только когда читал газету или за письменным столом…. Вот так год назад сосед нашел сидящего на стуле в полутора комнатах моего отца мертвым» («Полторы комнаты»), и обобщает: «однажды могут найти тебя мертвым на стуле – если ты живешь один – и наоборот» [Бродский 1999: 423, 438].
А. Генис заметил, что «стулья обладают привилегированным статусом в поэзии Бродского» [Генис 2001: 248], действительно, слово стул встречается 49 раз, табурет – 11, кресло – 5. Стул может появиться как составляющая интерьера, метафорическая интерпретация которого сразу лишает предметы их вещественного статуса («Элегия»). Его бытовая функция может трансформироваться эпитетом, по сути – качественным, но с учетом культурного контекста заключающим в себе иносказание («Помнишь свалку вещей на железном стуле… – «Анна Ахматова»). «Желтые стулья» («Пришла зима, и все, кто мог лететь…») напоминают о стуле Ван Гога, но каким бы ни был цвет стула у Бродского (зеленым – «В разгар холодной войны»; белым – «Венецианские строфы (2)»), он не отменяет семантики смерти – способности мира «обойтись без меня». Стул, уподобленный телу («Полдень в комнате»), своей пустотой означает необратимость отсутствия («В альбом Натальи Скавронской»; «В городке, из которого смерть расползалась по школьной карте…») и призрачность существования бестелесной души («Потому что каблук оставляет следы – зима»).
Все мотивы, связанные со стулом в культуре ХХ в., собираются воедино в «Посвящении стулу». Ю. Лотман акцентирует скольжение образа стула между предметом и беспредметностью [Лотман 1993]; Л. Лосев в семи строфах «Посвящения стулу» обнаруживает соответствие дням Страстной недели [Лосев 2008: 145]. Оба мотива сплетаются в стихотворении, вряд ли исчерпывая всю полноту его смысла. Оно выстраивается как логическая загадка с абсурдным решением. «Некоторый стул», репрезентирующий любую вещь и взятый «за спинку», одновременно является «всяким» и «единственным» (что отмечено Лотманом). В качестве «всякого» он имеет определенную форму, позволяющую отнести его к данной категории вещей; он – часть определенной материи («коричневой» – древесной), вытянутой вертикально; он заполняет (или «вытесняет») в какой-то степени пространство; он вполне заменяем такой же вещью, в результате чего не «конечен». В качестве «единственного» наличествующего он может быть использован по практической надобности и наделен ассоциативными смыслами («что твой наполеон красуется», «На мягкий в профиль смахивая знак и «восемь», но квадратное в анфас»).
Слово «стул» в цепи повторов утрачивает свое означаемое («мягкий знак») и становится квинтэссенцией вещного и вечного («Ваш стул переживет вас, ваши безупречные тела…») в противовес временному, конечному. Отстраненность позиции говорящего субъекта («ваше», а не «мое») выводит его за пределы обозримого времени собственного существования, открывая сферу иного бытия. Неизменная форма вещи – «стула» – та, что «сочтется камуфляжем в Царстве Духа», «держится в итоге на гвозде», другой вещи, с помощью которой был распят Христос и через распятие возродился. Образ Христа представлен в стихотворении аллюзивно – «март», «четверг», «шесть» (часов – начало пятницы), «розы», «гвозди» – и отнюдь не однозначно. Классическая тема вечного возрождения «единственного» человека в родовом существовании «всякого» («Мне время тлеть, тебе цвести») подвергается сомнению. «Рыба» как символ Христа заменена на «фиш», одинаково звучащее и на английском, и на идише, что делает проблематичным возможность христианского воскресения [Бродский 1992, 3: 145–147].
Стул, существующий в сфере онтологии как вещь, в феноменологической сфере «предстает в своих содержательных формах как образ, как понятие и как символ» [Колесов 1995: 132]7. Стул, способный к метаморфозам и могущий замещать человека, приобретает качества мифологемы или архетипа. Многообразие семантики стула обращает его в концепт – «сгусток культуры в сознании человека, … “пучок” представлений, понятий, знаний, ассоциаций, который сопровождает слово» [Степанов 1997: 40]. «Предмет… вещественный», стул все больше становится «предметом умственным» [Даль 1982, 2: 386], и такова судьба создаваемых человеком и окружающих его вещей в истории культуры.
Примечания
-
1 В крестьянском доме хозяин сидел в «красном углу», другие мужчины – у «долгой стены», девушки и дети – у окон.
-
2 Эта тема обыгрывается в рассказе А. Житин-ского «Стул»: «Один человек ходил на работу со своим стулом, сидел на нем весь рабочий день, а потом уносил домой. Сослуживцы считали это чудачеством, не более. Некоторые объясняли такое поведение повышенной мнительностью. Скоро человек стал ходить со своим стулом и в гости. Там он никому не мешал, высиживал положенное время и уходил, унося стул в специальном чехле с ручкой, точно музыкальный инструмент. Его стали считать гордецом и себялюбцем. Он настолько зарвался, что стал сидеть на своем стуле в трамвае, автобусе, самолете и даже в кино, где полным-полно государственных стульев. Эти действия сочли антиобщественными. Обладатель стула сделался вреден, и его посадили в тюрьму. Однако он и туда явился со своим стулом, заявив, что за свой стул он хочет сидеть на своем стуле. Только тут с запозданием поняли, чем объясняется его поведение. Он просто любил сидеть на своем стуле» [Житинский 2006: 162].
-
3 Падение со стула может служить знаком неприспособленности к реальности, непринадлежности к житейскому миру, как у Д. Хармса: «У Пушкина было четыре сына и все идиоты. Один не умел даже сидеть на стуле и все время падал. Пушкин-то и сам довольно плохо сидел на стуле. Бывало, сплошная умора: сидят они за столом; на одном конце Пушкин все время падает со стула, а на другом конце – его сын. Просто хоть святых вон вноси» [Хармс 1997, 2: 358].
-
4 Правильное выражение – «черта в ступе» – подразумевает, что черта в ступе не истолчешь. У В. Высоцкого оно обозначает нечто ненужное, но диковинное: «Обещал – забыл ты нешто? Ох, хорош! Что клеенку с Блангодеш-то привезешь. Сбереги там пару рупий, не бузи – Мне хоть чего, хоть черта в ступе, привези!» («Инструкция перед поездкой за рубеж или полчаса в месткоме»). У Е. Шварц стул переживает метаморфозу и превращается в ступу: «Ой-ой-ой! Я боюсь сидеть на стуле – Потому что он висит Над зияющею бездной. Ай-ай-ай! Я боюсь летать на ступе
– Потому что я люблю Быть притянутой к ладони Тяготенья и презренья» [Шварц 1995: 73].
-
5 См.: «Потом царь приглашал на визит поставщика медицины двора его величества, лейб-обер-доктора, и начинал призываться. – Ну-с, говорил лейб-обер-доктор, – как мы живем? Что желудок? Э-э… стул, то есть трон, был? Сколько раз?» [Кассиль 1977: 337].
-
6 Во французском «шозизме» стул может провоцировать разоблачение и смерть («Сбежала из храма ножка от стула...» Ж. Превека); стулу «эпохи Людовика Пятнадцатого», положенному санитаркой на кровать, могут ставить градусник, его могут лечить, но он будет холодеть, коченеть (напоминал скорее «мебель Людовика Шестнадцатого»), впадать в агонию и, наконец, умирать от стрихнина [Виан 2001].
-
7 Обзор определений термина «концепт» см.: [Грузберг 2003; Краткий словарь когнитивных терминов 1997; Руднев 1997 и др.].
Perm State Humanitarian-Pedagogical University
Список литературы Предметы интерьера в художественном тексте: стул
- Апухтин А. Н. Между смертью и жизнью//Сочинения. М., 1985. С. 484-504
- Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М.: Прогресс-Академия, 1992. 528 с
- Бобрик Р. Натюрморт в «Натюрморте» Бродского//Studia Literaria Polono-Slavica. 2002. P. 455-474
- Бродский И. Коллекционный экземпляр. URL: http://wwww.kulichki.com/moskov/BRODSKIJ/br_ item.txt (дата обращения: 25.10.2014)
- Бродский И. Меньше единицы. М.: Независимая газета, 1999. 472 с
- Бродский И. Сочинения: в 4 т. СПб.: Пушкинский фонд, 1992
- Ван Гог. Письма. Л.; М.: Искусство. 1996. 602 с
- Виан Б. Осень в Пекине. СПб.: Азбука-Классика, 2001. 288 с
- Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М.: Независимая газета, 2000. 490 с
- Генис А. Довлатов и окрестности. М.: Вагриус, 2001. 288 с
- Гоголь Н. Собр. соч.: в 6 т. М.: ГИХЛ. 1959. Т. 4
- Грузберг Л. А. Концепт//Стилистический энциклопедический словарь русского языка. М.: Флинта: Наука, 2003. С. 181-184
- Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М.: Рус. яз., 1982
- Житинский А. Стул//Седьмое измерение. СПб.: Геликон 1, 2006. 164 с
- Кассиль Л. Кондуит и Швамбрания//А. Гайдар, Л. Кассиль. Повести. М.: Детская литература, 1977. С. 327-580
- Колесов В. В. Ментальная характеристика слова в лексикологических трудах В.В. Виноградова//Вестник МГУ, сер. 9. Филология. 1995. №3. С. 130-139
- Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов. М.: Филол. ф-т МГУ им. М.В.Ломоносова, 1996. 245 с.
- Лотман Ю.М., Лотман М.Ю. Между вещью и пустотой (Из наблюдений над поэтикой сборника Иосифа Бродского «Урания»//Ломан Ю.М. Избранные статьи. В 3 тт. Таллинн, 1993. Т.3. С. 249-307
- Лосев Л. Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии. М.: Молодая гвардия, 2008. 448 с
- Мандельштам О. Сочинения: в 2 т. М.: Худож. лит., 1990. Т. 1. 638 c
- Маршак С. Кошкин дом. М.: Художник РСФСР, 1980. 47 с
- Набоков В. В. Рассказы. Воспоминания. М.: Современник, 1991а. С. 62-67
- Набоков В. В. Стихотворения и поэмы. М.: Современник, 1991б. 574 с
- Руднев В. П. Словарь культуры ХХ века. М.: Аграф, 1997. 384 с
- Пастернак Б. Стихотворения и поэмы. М.; Л.: Сов. писатель, 1965. 732 с
- Сахарный Л. В. Как устроен наш язык. М.: Просвещение, 1978. 160 с
- Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М.: Языки рус. культуры. 1997. 824 с
- Толстой Л. Н. Избранные повести и рассказы: в 2 т. М.: ГИХЛ, 1946. Т. 2. С. 100-147
- Фарыно Е. О парадигме «портрет -акт натюрморт» и ее семиотике//Studia Literaria Polono-Slavica. 2000. №7. С. 13-74
- Фреге Г. Смысл и денотат//Семиотика и информатика. М., 1977. Вып. 8. С. 181-210
- Хармс Д. Полн. собр. соч.: в 3 т. СПб.: Акад. проект, 1997. Т. 2. 504 с
- Шварц Е. Песня птицы на дне морском. Стихотворения. СПб.: Пушкинский фонд, 1995. 88 с