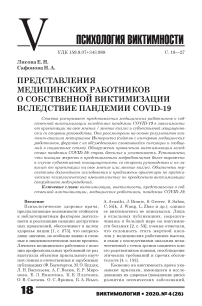Представления медицинских работников o собственной виктимизации вследствие пандемии COVID-19
Автор: Лисова Е.Н., Сафонова Н.А.
Журнал: Виктимология @victimologiy
Рубрика: Психология виктимного поведения
Статья в выпуске: 4 (26), 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья раскрывает представления медицинских работников о собственной виктимизации вследствие пандемии COVID-19 в зависимости от ориентации на свое мнение / мнение коллег и субъективной защищенности со стороны руководства. Они рассмотрены на основе результатов контент-анализа материалов Интернета (сайтов с интервью медицинских работников, форумов с их обсуждениями сложившейся ситуации и сообщений в социальных сетях). Обнаружены проявления виктимизации вследствие пандемии COVID-19: страх, бессилие и угнетенность. Установлено, что позиция жертвы в представлениях медработников более выражена в случае субъективной незащищенности со стороны руководства и не зависит от ориентации на свое мнение или мнение коллег. Обозначены перспективы дальнейшего исследования и предложены ориентиры по практическому психологическому вмешательству по преодолению виктимизации сотрудников медучреждений.
Виктимизация, виктимность, представления о собственной виктимизации, медицинские работники, пандемия COVID-19
Короткий адрес: https://sciup.org/14119424
IDR: 14119424 | УДК: 159.9.07+343.988
Текст научной статьи Представления медицинских работников o собственной виктимизации вследствие пандемии COVID-19
Психологическое здоровье врача, предполагающее возможности стойкости к неблагоприятным факторам деятельности и реализацию санации деструктивных проявлений, обеспечивает в целом здоровье нации [1, с. 273], что непреходяще значимо, но особенно важно в сложные в эпидемиологическом плане времена. Личность медицинского работника с позиции профессиональных требований не раз выступала объектом пристального научного поиска в отечественных и зарубежных публикациях (Ф. Баумгартен, М. О. Будзяк, Л. Н. Васильева, А. Г. Васюк, Е. Р. Миронова, Е. Л. Никитина, К. К. Платонов, О. В. Сысоева, О. С. Яркина, Б. А. Ясько,
A. Avasthi, J. Binnie, S. Grover, S. Sahoo, C. Silk, J. Wang, L. Zhao и др.), однако ее виктимогенез не описывался. Лишь в отдельных публикациях, сосредотачиваясь в большей мере на виктимности больных [2, с. 53], ученые отмечали, что склонность стать жертвой насилия у медицинских работников высока, в связи с последствиями оказания некачественной с точки зрения пациента или его родственников помощи, несоблюдения этических требований и прочих обстоятельств [4, с. 153].
Косвенно на виктимность врача указывают признаки, имеющиеся в исследованиях их здоровья (повышение риска развития психических заболеваний, деструктивных психических состояний [10, с. 7], поиска «видимого» потенциального источника опасности и виновников испытываемых ограничений [7, с. 119]), а также в целом психического здоровья под влиянием COVID-19 врачей как одной из трех (возможно перекрывающихся между собой) основных групп риска наряду с иными лицами имевшими или получившими психическое расстройство от ситуации пандемии [17, с. 1], которая подвергается наибольшему раннему стрессу наряду с немедицинскими работниками сферы здравоохранения [20, с. 1].
Статистика показывает значительное ухудшение психического здоровья медиков под влиянием предыдущих эпидемий [15, с. 255]. Уже установлено, что ситуация оказания врачебной помощи в процессе пандемии является экстремальной, вызывая у порядка половины врачей и медсестер посттравматическое стрессовое расстройство [19, с. 3]. Несомненно, болея коронавирусом, медицинские работники могут проявлять такие же психические реакции и нарушения поведения, как и обычные пациенты1. Как виктимоген-ные могут быть интерпретированы такие факторы их жизнедеятельности: высокий риск заражения, ощущение невозможности оказать помощь критически тяжелым больным, затруднение и ухудшение социального взаимодействия в связи со страхом заразить, быть переносчиком и стигматизацией такого статуса [16, с. 1], недостоверность информации СМИ и пр.
Сам по себе фактор столкновения с инфекциями, помноженный на необходимость соблюдения стандартов, ненор-мированность рабочего дня, низкую оплату труда, ощущение социальной незащищенности [6, с. 25] вносит вклад в выгорание врачей и, как показывают отечественные и зарубежные исследования, в значительной мере ему подверженных (В. И. Горбачев, Ю. А. Дьякова, Е. Б. Карпова, Т. В. Кравченко, О. Н. Мельникова, Д. В. Миколаевский, О. Э. Мит-кинов, А. Г. Нелюбин, Е. С. Нетесин, И. А. Новикова, Н. А. Огнерубов, В. В. Попов,
P. G. Brindley, M. Campagna, R. C. Coppola, G. Finco, M. Galletta, C. Maslach, S. Olusanya, I. Portoghese, A. Wong и др.). Это усугубляет их состояние, снижает общую жизнестойкость [12, с. 7], а значит, генерализирует виктимизацию. Так как медработники несут еще профессиональную и юридическую ответственность, то сам факт переживания ими тревожных и фобических состояний может усиливать рефлексию собственной обделенности. Все это происходит на фоне преимущественно низкого и среднего доверия медицинскому персоналу со стороны населения [5, с. 63], что в связи с недостаточной изученностью коронавируса и четкой неопределенностью схем и способов лечения приводит к недоверию медицинского работника к себе, неуверенности в своих силах и возможностях, растерянности, интенсифицируя ощущение жертвенности.
В современных условиях актуально выявление представленности позиции жертвы в представлениях самих медицинских работников, что имеет существенно значение как для общей оценки их психологического статуса, так и для планирования и реализации психологических превентивных и реабилитационных мероприятий в работе с ними.
Описание исследования
Сама по себе виктимность характеризуется:
-
— страхом, детерминирующим в значительной мере большую и в особенности повторную уязвимость [13, с. 171], дающим шоковое реагирование и актуализирующим виктимную установку [9, с. 158];
-
— беспомощностью в противостоянии насилию, зависимого от наличия определенного жизненного сценария (исходя из воспитания и выполняемой социальной роли [11, с. 39]);
— зависимостью имеющего ее субъекта от среды своего существования [14, с. 26], рождающей чувство угнетенности свободной воли [3, с. 27] в случае ее внешней заданности масштабами экстремальной ситуации и нормативными требованиями к выполнению деятельности в сложившихся условиях.
При этом страх у находящихся в «красной зоне» и в целом «на переднем крае фронта» в борьбе с пандемией должен быть значительно выражен (как показывают исследования, уровень стресса растет при наличии заболевшего коллеги, его госпитализации или смерти) [19, с. 3]. Более того, даже в штатных условиях профессиональной деятельности у медицинских работников в процессе виктимизации (вторичных жертв относительно пациентов как первичных жертв) возникает ощущение бессилия [18, с. 108]. Сочетание необходимости отвечать требованиям безопасности осуществления медицинской деятельности для пациентов и добиваться качества лечения по объемам, срокам и условия его осуществления, подотчетность государственному, ведомственному и внутриорганизационному контролю и обратной межличностной и массовой (через СМИ) связи в условиях нередко невозможности принять удовлетворяющее все стороны и приводящее к позитивному результату лечения решение, на фоне страха и бессилия, скорее всего воспринимается как угнетенность.
Итак, в целом мы полагаем, что виктимизация в условиях пандемии COVID-19 проявляется как сочетание:
-
— бессилия (однозначная неопределенность болезни, способов ее лечения и успешности результата в условиях роста количества заболевших), что может усиливаться истощением выгорающих медработников;
-
— страха (заразиться самому, «принести» инфекцию домой, не справиться) в условиях эмоционального заражения от больных, коллег и муссирования данной тематики СМИ;
— восприятия своего положения как угнетенного (ущемленного) (требованиями профессии, руководства, больных и в целом населения, восприятием нахождения «в зоне поражения», «на передовой»).
Мы выдвинули гипотезу о том, что позиция жертвы в представлениях медицинских работников более выражена в случае: 1) ориентации на коллег, нежели на собственное мнение; 2) субъективной незащищенности со стороны руководства.
Первая особенность согласуется с несамостоятельностью и неспособностью решать проблемные ситуации самой жертвой, эмпирически обнаруженной связью виктимности и конформности [8, с. 5], а также массовыми и групповыми эффектами заражения и усиления отрицательных чувств и переживаний со стороны коллег в условиях работы системы здравоохранения на пределах своей мощности.
Вторая особенность может проявляться, так как виктимный «иммунитет» образуется и поддерживается социальной поддержкой, ее проявление по вертикали должно его усиливать, а также исключать факторы дополнительной внутриорганиза-ционной психологической травматизации.
Для проверки указанной гипотезы реализовывался контент-анализ материалов Интернета (сайтов с интервью медицинских работников, форумов с их обсуждениями сложившейся ситуации и сообщений в социальных сетях). Всего были отобраны 100 документов, имеющих признаки позиции жертвы у медицинских работников в условиях пандемии (бессилие, страх и угнетенность). Они были подвергнуты контент-анализу с последующим количественным, в том числе математико-статистическим, и качественным анализом.
Схема контент-анализа предполагала кодировку всего массива данных по трем блокам категорий: ориентация на мнение (1), психологическая защищенность (2) и позиция жертвы (3).
Первый блок включал категории ориентации на свое мнение и ориентации на мнение коллег. Индикаторами первой категории выступили: выражение позиции с использованием местоимения «Я»; наличие собственного мнения по поводу лечения ковидных больных и самой болезни. Индикаторы второй категории первого блока: выражении позиции с использованием местоимения «Мы» или безлично («считается», «принято думать» и т. п.); приведение официальной информации или ссылки на авторитеты в области медицины.
Второй блок состоял из категорий психологической защищенности со стороны руководства и психологической незащищенности со стороны руководства. Первая категория второго блока определялась по индикаторам положительной оценки действий, предпринимаемых руководством, и согласием с мнением и действиями руководства. Вторая — по противоположным им по значению признакам (отрицательной оценке и несогласию).
Третий блок состоял из категорий, отражающих три проявления виктимности: страх, бессилие и угнетенность. Первая категория квалифицировалась по индикаторам страха заразиться и страха заразить; вторая — осознания невозможности справиться с тяжелыми стадиями болезни, с оказанием помощи умирающим, с ситуацией нехватки лекарств и медицинского персонала и т. п., с ощущением нехватки энергии (упадок сил постоянный, временный в процессе адаптации при перепрофилировании учреждений, большом количестве пациентов и т. п.); третья — по осознанию плохих условий работы (большое количество смен, низкая оплата труда, отсутствие обещанных выплат и компенсаций за работу с ковидными больными или заражение) и переживанию отрицательных последствий работы в ковидными больными (невозможность поддерживать контакты и нерабочую активность с семьей, друзьями, на досуге вследствие усталости, более интенсивного графика работы, заражение и его последствия, получение отрицательной обратной связи со стороны больных, их родственников и населения в целом (в частности, через СМИ)).
Всего в 100 источниках содержится 636 упоминаний тех или иных проявлений виктимности медработников (врачей, медсестер) в ситуации пандемии COVID-19. Следует отметить, что категория угнетенность является самой часто встречающейся (307 упоминаний), на втором месте категория бессилия (189), далее идет категория страха (140). В ходе анализа источников можно выделить следующие, достаточно часто встречающиеся, выражения: «ситуация патовая, очень тяжело», «наша работа сейчас — мясорубка», «сейчас за работу с ковидными пациентами нам не приходят дополнительные выплаты — платят только за работу по графику. Зарплату получаем даже меньше, чем в обычное время», «уже уволилось девять человек. Из соседней реанимации ушло 90 % медперсонала. Врачи часто дежурят без медсестер, но руководство это игнорирует», «сейчас больница разваливается, но никто ничего не делает».
Таким образом, представления о собственной виктимизации главным образом связаны с перегруженностью работой и ущемленностью прав и обязанностей медицинских работников в сложившихся условиях. Тем самым внешние воспринимаемые рамки и ограничения в изменившихся условиях трудовой деятельности чаще приводят к восприятию себя как жертвы, нежели ощущение бессилия и чувство страха. Это может быть связано со спецификой работы медицинских сотрудников — исходной не брезгливостью и готовностью к сложным условиям и ситуациям, которые сформированы уже на этапе выбора профессии и профподготовки.
Для проверки выдвинутой гипотезы определялись математико-статистическим путем (посредством t-критерий Стьюдента с предварительной нормализацией данных) различия между двумя подвыборками (ориентирующихся на мнение коллег и свое мнение) в общем и частных (страх, бессилие и угнетенность) показателях виктимности (соответственно получились значения tэмп. = 0,69; 1,28; 1,29; 1,09; p > 0,05). Первая часть гипотезы о том, что позиция жертвы в представлениях медицинских работников более выражена в случае ориентации на коллег, нежели на собственное мнение, не подтвердилась.
Однако при ориентации на свое мнение причины страха меньше упоминаются, чаще встречается отсутствие страха, как такого, намечается тенденция к самоуспокоению (сравнение с другими не менее опасными вирусами («не хуже обычной пневмонии»), смертность от которых не уступает COVID-19, ожидание лучшего исхода — «вирус скоро станет всесезонным»). В случае ориентации на мнение коллег проявляется страх не спасти пациента, боязнь заразить близких, работа в красной зоне сравнивается с боевыми действиями («в красную зону нас провожают как на войну»), важно заметить, что страхи в данном случае напрямую упираются в отсутствие тестов на вирус, недостаточное оснащение защитными средствами, что связано с невниманием руководства к сотрудникам. Также проявление бессилия и угнетенности у ориентирующихся на свое мнение иногда полностью отвергается, сочетаясь с субъективной защищенностью от руководства. У тех же, кто ориентируется на мнение коллег, бессилие связано с высоким количеством больных, непре-кращающимся потоком заразившихся и непониманием, как может повести себя вирус. Угнетенность ощущается за счет отсутствия униформы («мы работаем с мусорным мешком на голове»), выстроенного руководством тяжелого графика («мы работаем по 12, 13, а порой и 14 смен без перерывов»), отсутствия выплат и компенсаций («руководство вроде как старается, но у нас остается много открытых вопросов»).
Итак, несмотря на отсутствие различий в выраженности восприятии позиции жертвы у ориентирующихся на свое мнение и мнение коллег в целом, страх, бессилие и угнетенность у последних всегда проявляются и более вариативны, связываются с неумелыми действиями руководства, создающими ощущение психологической незащищенности.
Аналогичная математико-статистическая процедура проведена относительного различий в позиции жертвы в представлениях медработников для сравнения подвыборок, отличающихся субъективной защищенностью и субъективной незащищенностью со стороны руководства (получены значения tэмп.= 7,35; 3,88; 4,4; 5,35; p < 0,05). Вторая часть гипотезы о том, что позиция жертвы в представлениях медицинских работников более выражена в случае субъективной защищенности со стороны руководства, подтвердилась.
Медработники, ощущающие субъективную защищенность со стороны руководства, менее эмоционально описывают ситуацию пандемии, утверждают о наличии средств, облегчающих работу (например, помощники, чтобы переодеться перед заходом в красную зону, средства, чтобы не запотевали маски и т. д.), определяют работу как «интересный опыт», практически не испытывают страх заразиться («сама я заразиться не боюсь, у нас соблюдаются все методы защиты»). Их коллеги, испытывающие субъективную незащищенность со стороны руководства, напротив, боятся в условиях пандемии COVID-19, так как не достает средств защиты, невозможно сдать тест на вирус, неопределённо будущее. Если у первых бессилие прошло («появляются новые знания, новые препараты, новые схемы лечения, опыт ведения этих пациентов, естественно, что сейчас работать гораздо легче») или саморегулируется («чувство бессилия, апатия, но потом понимаешь, что нужно работать»), то у вторых фиксируется усталость, отсутствие положительных изменений в плане своего психоэмоционального состояния и невозможность достучаться о своих нуждах руководству. Субъективно защищенные со стороны руководства не воспринимают себя как угнетенных, а субъективно незащищенные отражают отсутствие комфортных условий работы, невнимательность, граничащую с полной глухотой начальства и иных вышестоящих лиц к нуждам сотрудников, также, большинство медицинского персонала не видели дополнительных выплат, премий и пособий («в подготовку ко второй волне не вкладывались. Автозаки были важнее», «…на медицину деньги выделяют по остаточному принципу. В любом случае на бронежилеты пойдет больше, чем на больницы»).
Качественный анализ показывает общую низкую вовлеченность руководства медицинский учреждений в решение проблем сотрудников. Медицинские работники отмечают, что, в связи с подобным отношением вышестоящих лиц, им порой приходится принимать решения, напрямую связанные с безопасностью и жизнью людей: «привозят, допустим, дедушку в пролежнях. И молодого человека. А у тебя — одна кислородная точка. И ты начинаешь делать выбор. А не надо это делать врачу». Значительное количество проанализированных документов указывает на отсутствие каких-либо сложностей у подчиненных в восприятии руководящих лиц медучреждений, что, впоследствии (в других, связанных интервью и комментариях) полностью опровергается самим персоналом. В условиях пандемии, явно заметно наличие большого субъективного психологического расстояния в оценке происходящего между сотрудниками больниц и их руководителями. Те медицинские работники, по отношению к которым со стороны руководства были приняты все необходимые меры (стимулирование в виде премий и дополнительных выплат, обеспечение необходимым оборудованием, грамотно продуманный график работы, внимание к физиологическим потребностям и т. д.) практически не ощущают себя в жертвенной позиции и способны адекватно оценивать ситуацию.
Итак, гипотеза исследования подтвердилась частично. Надо полагать, что, скорее всего, обе ситуации — ориентация на свое мнение и ориентация на мнение коллег могут обладать виктимогенным потенциалом. В первом случае за счет проявления внутриорганизационных сложностей и конфронтации с коллегами, а во втором — путем генерации ощущения медицинского коллектива как жертвы сложной эпидемиологической обстановки. Страх, бессилие и угнетенность у ориентирующихся на свое мнение при этом всегда проявляются и более вариативны, связываются с неумелыми действиями руководства, создающими ощущение психологической незащищенности. В любом случае субъективная незащищенность со стороны руководства предрасполагает к большей интенсивности восприятия медработником себя как жертвы в условиях пандемии COVID-19 за счет неурегулированного страха, усиливающегося упадка сил и субъективно неадекватных имеющимся личным ресурсам условий профессиональной деятельности.
Заключение
Позиция жертвы в представлениях медицинских работников вследствие пандемии COVID-19 более выражена в случае субъективной незащищенности со стороны руководства и не зависит от ориентации на свое мнение или мнение коллег. В сложившихся условиях перспективным является изучение не только индивидуальной, но и групповой виктимизации сотрудников медицинских организаций с установлением вклада структурных и процессуальных факторов групповой жизнедеятельности в них.
Психологическая профилактика и коррекция виктимности медицинских работников в условиях пандемии COVID-19 с учетом результатов проведенного исследования может подразумевать работу с системой руководства-подчинения, за счет которой можно создать и поддерживать у сотрудников ощущение психологической защищенности. При этом представление о собственной виктимизации может преодолеваться путем анализа ресурсов уязвимости/ стойкости и их поиска в референтном социальном окружении по вертикали в медицинской организации. Соответствующие программы психологической помощи и самопомощи врачам и медсестрам должны в идеале быть комплексными, включая не только формирование авик-тимной компетентности, но и направления по преодолению профессионального выгорания и обучения навыкам саморегуляции.
Список литературы Представления медицинских работников o собственной виктимизации вследствие пандемии COVID-19
- Андриянов, С. В. Профессиональное здоровье врача / С. В. Андриянов // Бюллетень медицинских Интернет-конференций. — 2017. — Т. 7, № 1. — С. 273—274.
- Винокурова, М. А. Виктимность в сфере неосторожных профессиональных медицинских преступлений (ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118 УК) / М. А. Винокурова // Виктимология. — 2015. — № 2 (4). — С. 51—54.
- Вишневецкий, К. В. Криминогенная виктимизация социальных групп в современном обществе : специальность 12.00.08 «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право» : автореф. дис. … д-ра юрид. наук / Вишневецкий Кирилл Валерьевич. — Москва, 2008. — 45 с.
- Вишневецкий, К. В. Виктимологические аспекты обеспечения безопасности медицинских работников / К. В. Вишневецкий, Н. Ш. Козаев // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. — 2019. — № 11. — С. 152—155.
- Дмитриева, Е. В. Доверие в врачу как условие установления социально-психологического отношения и общения между врачом и пациентов / Е. В. Дмитриева // Вестник Ленинградского госуниверситета им. А. С. Пушкина. — 2010. — Т. 5, № 3. — С. 55—64.
- Емельянова, А. А. Теоретические основы изучения феномена эмоционального выгорания у врачей и среднего медицинского персонала / А. А. Емельянова, В. А. Куташов, Т. Ю. Хабарова // Центральный научный вестник. — 2017. — Т. 2, № 2 (19). — С. 23—26.
- Ениколопов, С. Н. Динамика психологических реакций на начальном этапе пандемии COVID-19 / С. Н. Ениколопов, О. М. Бойко, Т. И. Медведева, О. Ю. Воронцова, О. Ю. Казьмина // Психолого-педагогические исследования. — 2020. — Т. 12, № 2. — С. 108—126.
- Клачкова, О. А. Структурная организация виктимной личности : специальность 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии» : автореф. дис. … канд. психол. наук / Клачкова Ольга Александровна. — Санкт-Петербург, 2008. — 17 с.
- Клейберг, Ю. А. Психология девиантного поведения: учебник и практикум для вузов / Ю. А. Клейберг. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 290 с.
- Островский, Д. И. Влияние новой коронавирусной инфекции COVID-19 на психическое здоровье человека (обзор литературы) / Д. И. Островский, Т. И. Иванова // Омский психиатрический журнал. — 2020. — № 2-S1 (24). — С. 4—10.
- Ривман, Д. В. Криминальная виктимология : Жертвы преступлений. Мошенничество. Хулиганство. Кражи. Разбой / Д. В. Ривман. — Санкт-Петербург : Питер, 2002. — 304 с.
- Стецишин, Р. И. Личностно-психологические ресурсы жизнестойкости: на примере врача-клинициста : специальность 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии» : автореф. дис. … канд. психол. наук / Стецишин Роман Иванович. — Краснодар, 2008. — 27 с.
- Туляков, В. А. Виктимология (социальные и криминологические проблемы) : монография / В. А. Туляков. — Одесса : Юридiчна лiтература, 2000. — 336 с.
- Христенко, В. Е. Психология поведения жертвы : учебное пособие / В. Е. Христенко. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. — 411 с.
- Brooks S. K., Dunn R., Amlôt R., Rubin G. J., Greenberg N. A Systematic, Thematic Review of Social and Occupational Factors Associated With Psychological Outcomes in Healthcare Employees During an Infectious Disease Outbreak. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2018, vol. 60, no. 3, pp. 248—257. DOI: 10.1097/JOM.0000000000001235
- Galbraith N., Boyda D., McFeeters D., Hassan T. The mental health of doctors during the COVID-19 pandemic. BJPsych Bulletin, 2020, Apr. 28. Available at: https://doi.org/10.1192/ bjb.2020.44 (accessed 12 dec. 2020).
- Inchausti F., MacBeth A., Hasson-Ohayon I., Dimaggio G. Psychological Intervention and COVID-19: What We Know So Far and What We Can Do. Journal of Contemporary Psychotherapy, 2020, vol. 50, no. 4, pp. 243—250. DOI: 10.1007/s10879-020-09460-w
- Miller C. S., Scott S. D., Beck M. Second victims and mindfulness: A systematic review. Journal of Patient Safety and Risk Management, 2019, vol. 24, no. 3, pp. 108—117.
- Rossi R., Socci V., Pacitti F., Lorenzo G. Di, Marco A. Di, Siracusano A., Rossi A. Mental health outcomes among front and second line health workers associated with the COVID-19 pandemic in Italy. MedRxiv preprint, 2020, Apr. 22. Available at: https://doi.org/10.1101/2020.04.16.20067801 (access 12 dec. 2020).
- Tan B. Y. Q., Chew N. W. S., Lee G. K. H., Jing M. Psychological Impact of the COVID-19 Pandemic on Health Care Workers in Singapore. Annals of Internal Medicine, 2020, Aug., 18. Available at: https://doi.org/10.7326/M20-1083 (access 12 dec. 2020).