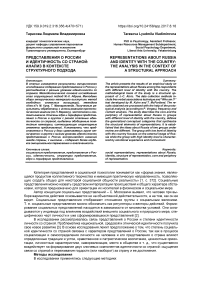Представления о России и идентичность со страной: анализ в контексте структурного подхода
Автор: Тарасова Людмила Владимировна
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Педагогика
Статья в выпуске: 8, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье излагаются результаты эмпирического исследования содержания представлений о России у респондентов с разным уровнем идентичности со страной. Методологической основой исследования стал структурный подход Ж.-К. Абрика. Методами сбора эмпирического материала выступили метод свободных словесных ассоциаций, методика «Кто я?» М. Куна, Т. Макпартленда. Полученные результаты обработаны с использованием прототипического анализа (по П. Вержесу), частотного и контент-анализа. Описаны ядро и периферия представлений о России в группах с разной степенью идентичности со страной, выделены обобщенные понятийные категории, синтезирующие структурные элементы представлений. Установлено, что представления о России у двух сравниваемых групп отличаются: в группе с низким уровнем идентичности представление о России воспроизводит внешний имидж страны, с высоким - содержит более глубокое эмоциональное переживание и вовлеченность.
Социальные представления, представления о России, идентичность, структура представления, ядро и периферия представления
Короткий адрес: https://sciup.org/14940226
IDR: 14940226 | УДК: 159.9.019.2:316.356.4(470+571) | DOI: 10.24158/spp.2017.8.18
Текст научной статьи Представления о России и идентичность со страной: анализ в контексте структурного подхода
СТРУКТУРНОГО ПОДХОДА
Категория представлений в социальной психологии понимается как «форма знания, являющаяся продуктом коллективного творчества и имеющая практическую направленность, позволяющую создать общую для некоторой социальной общности реальность» [1, с. 372]. Социальные представления можно назвать средством интерпретации происшествий и общего характера обстановки, которое предназначено для ориентации их носителей в физическом и социальном мире.
Автор концепции социальных представлений – С. Московичи выявил, что человек при выборе вариантов действия основывается не на объективной действительности, а на том, как он ее видит. Социальные представления отображают отношение группы к социальным явлениям. Т. е. социальные представления можно обозначить как регуляторы и векторы действий. Формирование социальных представлений находится в зависимости от множества условий. Они складываются у индивида под влиянием воздействий внешнего социального и природного мира, специфических черт личности и уже сформировавшихся представлений [2].
В исследовании рассматривалась связь представлений о России и степени идентичности личности со страной. Проблематика национальной, средовой и этнической идентичности получила свое новое развитие [3]. В основе исследования лежит предположение о том, что степень социальной идентичности со страной связана с характером представлений о России, так как в процессе социализации и самоопределения личности на человека и его представления о стране влияют определенные традиции и устои, нравственное и патриотическое воспитание, ценностные ориентации, личностные характеристики, самореализация, место в обществе и т. д., что существенно воздействует на формирование двух ключевых компонентов идентичности со страной: ощущения связи со страной и переживания гордости (или наоборот) за страну и ее достижения.
Методы исследования
В исследовании применялись следующие методики:
-
1. Методика «Кто я?» М. Куна, Т. Макпартленда - для изучения содержательных характеристик идентичности личности, а конкретно процентной доли этническо-региональной идентичности в общем числе обобщенных показателей - компонентов идентичности.
-
2. Метод свободных словесных ассоциаций - респондентам предлагалось указать ассоциации, возникающие по отношению к слову-стимулу «Россия».
Выборка исследования (188 человек) была уравнена по полу (48 % мужчин и 52 % женщин) и уровню образования (53 % с высшим и неоконченным высшим образованием, 47 % со средним образованием), представлена респондентами от 19 до 55 лет. Численный состав возрастных групп (от 19 до 25 лет; от 26 до 40 лет; от 41 до 55 лет) также был уравнен.
Обработка и анализ полученных данных осуществлялись с использованием прототипического анализа (по П. Вержесу) [4], частотного и контент-анализа.
Анализ результатов
На первом этапе исследования из совокупной выборки были выделены группы респондентов с высокой и низкой степенью идентичности со страной. Необходимо отметить, что процентное содержание этническо-региональной идентичности в составе элемента идентичности «социальное “я”» у респондентов составляет всего 3,1 %, из чего можно сделать вывод о ее слабой выраженности. Т. е. респонденты вне зависимости от общего уровня идентичности со страной на когнитивном уровне слабо воспринимают себя как представителя страны и этноса, а также свою территориальную принадлежность. Можно предположить, что данные характеристики относятся к более глубоким, возможно, малоосознаваемым слоям я-концепции.
В группу с низкой идентичностью вошли 12,8 % респондентов, с высокой - 18,7 %. Группой с низкой степенью идентичности было предложено 124 ассоциации к слову «Россия», с высокой -179. В результате обработки данных обеих групп было выявлено содержание ядра представления (табл. 1).
Таблица 1 – Содержание зоны ядра представления о России у респондентов с разной степенью идентичности со страной
|
Элементы структуры представления |
Понятия-ассоциации (в скобках рядом с каждым понятием указаны их частота встречаемости и средний ранг) |
|
|
группа с низкой идентичностью |
группа с высокой идентичностью |
|
|
Зона ядра социального представления |
Путин (10; 2,83) водка (11; 3,33) Медведев (13; 2,5) деревня (11; 2,22) медведь (11; 3,3) (самые) красивые женщины (9; 3,2) |
Родина (15,33; 2,19) снег (12; 3,5) матрешка (12; 3,55) деревня (9; 4,5) дом (9; 4,35) стена (стены держат) (8; 4,43) |
|
Потенциальная зона изменений представления |
страна (3; 10,1) Пушкин (3; 14) хохлома (2; 13,2) СССР (2; 8,5) Ельцин (4; 18,3) береза (9; 12,2) валенки (6; 13,4) Гагарин (7; 14,7) Родина (9; 14,74) |
великая держава (4; 15,2) Пушкин (5; 14,8) Путин (5; 12,5) балет (4; 13,7) песни (3; 12,8) лес(-а) (8; 13,2) детство (9; 13,6) семья (9; 14,2) терпеливая (4; 15,3) гимн (8; 16,5) |
|
Собственно периферическая система представления |
народ (4; 6,4) нищета (5; 6,88) Кремль (5; 7,02) военная мощь (3; 5,5) дом (6; 4,3) «щедрая душа» (6; 4,2) |
Отчизна (6; 4,8) добрый народ (4; 5,2) простота (6; 5,4) конь (4; 3,77) «Умом Россию не понять» (6; 4,4) |
Для начала рассмотрим ассоциации группы с низкой идентичностью. Можно сказать, что в ядро представлений попали в основном презентативные ассоциации. Т. е. если попросить представителя другой страны обрисовать Россию в нескольких словах, в первую очередь сюда войдут Путин, красивые женщины, водка, медведи и т. д. Испытуемые этой группы воспринимают свою страну преимущественно как сторонние наблюдатели, в том числе и через социальную стигматизацию, которая подразумевает уплощение и обобщение представления. Например, «водка» может подразумевать такой стигмат, как «русские - алкоголики», медведь («медведи по улицам ходят») - общий невысокий культурный уровень, хотя ассоциацию «медведь» можно интерпретировать и как символический признак России, раскрывающий мощь и непредсказуемость характера. То же можно сказать и про красивых русских женщин. Это результат представления, полученного именно от наблюдателя извне, интериоризированный в национальное сознание. Еще обращают на себя внимание ситуативные ассоциации («Путин», «Медведев»), т. е. те, которые отражают непосредственно текущую ситуацию. Возможно, при смене государственного лидера и состава правительственного аппарата возникли бы другие имена-ассоциации.
В группе с высокой идентичностью у испытуемых преобладают традиционные ассоциации-символы: «снег», «матрешка», «деревня», а также эмоционально значимые – «Родина», «дом». Т. е. можно предположить более глубокое эмоциональное переживание, тяготение к «корневой» части культуры и быта. Еще один элемент ядра – «стена (стены держат)», который вызывает чувства защищенности, надежности и покоя. В отличие от респондентов из группы с низким уровнем идентичности здесь преобладают ассоциации, погружающие во внутренний мир страны. Элемент ядра «деревня» является общим для обеих рассматриваемых групп, и это единственное содержательное пересечение.
Содержание зоны потенциальных изменений представления о России
Согласно структурному подходу Ж.-К. Абрика, содержание данной области является возможным источником трансформации представлений в данной группе и в скором времени сможет стать ядерной частью социального представления [5]. Также есть вероятность их перехода в собственно периферию либо полного выхода из структуры представления.
Проведенный контент-анализ полученных ассоциаций позволил выделить следующие содержательные категории, раскрывающие понятие «Россия»:
-
1. Государство – описание государства как понятия, его исторических этапов развития и значимых политических фигур, в разное время стоявших у власти.
-
2. Культура – достижения, направления и артефакты как носители социально-культурной информации и жизненно-смысловых значений.
-
3. Территориально-средовые признаки – различные признаки, свойства и явления пространственно-географической среды.
-
4. Идентичность – ассоциации, которые отвечают за собственно идентичность со страной, например «Родина», «счастливое детство».
-
5. Экзистенциальный пессимизм – ассоциации, содержащие в себе некую долю экзистенциального пессимизма и тоски: «несправедливость», «боль» и т. д.
-
6. Традиционные символы – традиционные понятия-символы России: «матрешка(-и)», «валенки», «шапка-ушанка», «береза».
-
7. Национальная гордость – ассоциации, которые затрагивают, с одной стороны, научнотехнический прорыв (например, «Гагарин», «космонавтика»), а с другой – исторически значимые события (например, «победа в Великой Отечественной войне»).
-
8. Персонификация – ассоциации, которые можно рассмотреть в контексте «очеловечивания», персонификации страны, т. е. представления о России как о живом человеке, возможно, женщине, наделенной качествами, индивидуальностью и характером («могучая», «богатая», «красиво(-ая)» и пр.).
Сравнительные данные по содержательному наполнению ассоциаций групп с низкой и высокой идентичностью, полученные в результате контент-анализа, представлены в таблице 2. Всего в зону потенциальных изменений по двум группам вошли 175 ассоциаций, связанных со словом «Россия». Общее количество ассоциаций этой зоны представлений у респондентов с низким уровнем идентичности – 63, с высоким – 112.
Таблица 2 - Ассоциации зоны потенциальных изменений представления о России респондентов с разной степенью идентичности, %
|
Блок ассоциаций |
Группа с высокой идентичностью |
Группас низкой идентичностью |
|
Государство |
27,7 |
17,5 |
|
Культура |
11,6 |
15,9 |
|
Территориально-средовые признаки |
20,4 |
22,3 |
|
Идентичность |
18,8 |
9,5 |
|
Экзистенциальный пессимизм |
– |
3,2 |
|
Традиционные символы |
5,4 |
9,5 |
|
Национальная гордость |
2,7 |
6,3 |
|
Персонификация |
13,4 |
15,8 |
Результаты группы с высокой идентичностью имеют ярко выраженное преобладание категории «Государство» (частота встречаемости ассоциаций данной группы на 10,2 % выше, чем у испытуемых с низким уровнем идентичности). При этом у группы с высокой идентичностью наблюдается баланс ассоциаций, обращенных в прошлое и направленных на актуальную обстановку в стране, в то время как в группе с низкой идентичностью преобладают ассоциации, связанные с прошедшими событиями. Т. е. в зоне потенциальных изменений представители группы с высокой идентичностью демонстрируют не только состояние «здесь и сейчас», но и более широкий спектр и разнообразие представлений, что может быть вызвано как более выраженной гражданской позицией, так и повышенной тревожностью по поводу текущего положения дел в стране («кризис», «коррупция» и констатация события, с одной стороны, доказывающего могущество и твердую политическую позицию, а с другой, выступившего поводом для последующего осложнения международных отношений и снижения уровня жизни страны в целом, – «Крым (наш)»).
Второе явное отличие связано с блоком, определенным как «Идентичность» (разница 9,3 % в пользу группы с высокой идентичностью). В группе, лидирующей по этому признаку, ассоциации носят очень личностную, даже интимную окраску и выраженное чувство принадлежности («моя», «мать», «дом», «семья» и т. д.). Это косвенно подтверждает, что распределение респондентов по группам идентичности произведено верно.
В блоке ассоциаций, связанных с «очеловечиванием» образа страны, т. е. попыткой сделать его ближе и понятнее, сократить дистанцию, доля ассоциаций от группы с низкой идентичностью несколько выше (15,8 %), чем у группы с высокой идентичностью (13,4 %). Однако во втором случае ассоциации разнообразнее («терпеливая», «(широкая) душа», «обладающая особой миссией», «гордая», «богатая и бедная одновременно», «раздираемая на части» и т. д.) и образ в целом получается многогранным и более «живым».
Периферическая система представлений
Периферическая система характеризуется вариативностью и изменчивостью, опирается на индивидуальный опыт и индивидуальную память. Периферия образована элементами, нацеленными на адаптацию к каждодневной жизни. Результаты отображены в таблице 3. Всего в периферическую зону социальных представлений о России вошли 87 ассоциаций (38 – группа с низкой идентичностью и 49 – с высокой).
Таблица 3 - Ассоциации периферической зоны представления о России респондентов с разной степенью идентичности, %
|
Блок ассоциаций |
Группа с высокой идентичностью |
Группа с низкой идентичностью |
|
Государство |
18,4 |
15,8 |
|
Культура |
20,4 |
2,6 |
|
Территориально-средовые признаки |
16,3 |
18,5 |
|
Идентичность |
8,2 |
13,2 |
|
Социальное окружение |
10,2 |
15,8 |
|
Традиционные символы |
12,2 |
7,9 |
|
Актуальные переживания |
12 |
2,6 |
|
Персонификация |
14,3 |
23,6 |
Рассмотрим ключевые отличия результатов групп сравнения.
Респонденты группы низкой идентичности имеют на 9,3 % больше ассоциаций в периферической зоне, касающихся «очеловечивания» страны. С одной стороны, это может быть стремлением сократить дистанцию в отношениях «я – Россия», сделать их более интимными, а с другой, возможно, говорит об использовании механизма проекции, т. е. попытке наделить ответственностью и полномочиями управления своей жизнью внешний объект.
У этой группы выше процент элементов идентичности – 13,2 %, в то время как у группы высокой идентичности он составляет только 8,2. Можно предположить, что на уровне индивидуальных значений это несет адаптивную функцию, приспособление к динамике изменяющейся реальности, реакцию на «злобу дня».
Следующее видимое различие относится к блоку культуры: 20,4 % у группы с высокой идентичностью и 2,6 % – с низкой. Это очень неоднозначный результат, поскольку речь идет не столько о фиксации культурных достижений или перечислении ярких представителей, а о иносказательных, часто стихотворных или просто устойчивых выражениях, касающихся тех или иных аспектов образа России («Умом Россию не понять», «немытая Россия» и т. д.). В периферической части представлений речь идет об индивидуальном опыте и наполнении личными смыслами. Можно предположить, что здесь проявились индивидуальные особенности некоторых испытуемых. Однако если распространить вывод на группу в целом, то, вероятно, обнаружится некоторая стереотипизация образа страны, которая, с одной стороны, являет стремление поэтизировать, романтизировать или придать иронично-философский флер, а с другой, может говорить о попытке замаскировать отношение перед предполагаемым «проверяющим», опосредовать переживание вследствие нарушения контакта с собой или малой осмысленности личной позиции.
Обратим внимание также на общие проявления в представлениях исследуемых групп. В группе как с низкой, так и с высокой идентичностью только лишь в периферической системе представлений появились характеристики социального окружения и общества в целом («бесправные люди», «добрый наивный народ» и т. д.). Также у респондентов обеих рассматриваемых групп примерно равное количество представлений, касающихся свойств и характеристик среды, окружающего пространства и территории. При этом в общей совокупности представлений этот блок занимает значительную долю, что может говорить о достаточно глубоком ощущении места, земли, «заземленности», вне зависимости от уровня общей идентичности.
Заключение
На основании содержания зоны ядра представлений можно заключить, что на уровне глубинных, малоосознаваемых слоев социального поведения и нормативно-ценностных ориентиров у респондентов с низкой идентичностью преимущественно презентативные, связанные с внешним имиджем представления о России. Иными словами, испытуемые этой группы воспринимают свою страну так, словно являются сторонними наблюдателями, а не представителями России. Отчасти это конкретизируется в зоне потенциальных изменений через обилие и разнообразие представлений, касающихся культурного фонда страны, т. е. через формирование образа страны, обладающей богатым духовно-творческим наследием и потенциалом. В зоне периферии этот блок также присутствует, однако минимально. Такая же тенденция прослеживается и по блоку национальной гордости. Если в ядре находится словосочетание «(самые) красивые женщины», в зоне изменений – ассоциации про героизм в войне и полет в космос, то в зоне периферии этот блок отсутствует. Т. е. в области индивидуальных различий представления, связанные с имиджевыми характеристиками страны, постепенно затухают. В то же время, уже начиная с зоны потенциальных изменений, появляются некоторые элементы идентификации со страной, которые расширяются к области индивидуальных значений. Можно предположить, что это результат действия механизма адаптации. Значительную долю представлений зоны потенциальных изменений занимает совокупность представлений о среде проживания, территориальной принадлежности, причем они касаются как природной среды, так и среды «второй природы» и искусственного мира. Это можно считать продолжением ассоциации «деревня» из зоны ядра представления, которое подхватывается и на периферии.
Таким образом, можно говорить о соподчинении, согласованности между ядром, зоной потенциальных изменений и периферией в структуре представлений. Что касается собственно периферии, т. е. зоны индивидуальных значений, то из зоны потенциальных изменений сюда вошли и получили количественное расширение ассоциации, связанные с персонификацией, «очеловечиванием» страны. С одной стороны, это может быть стремлением сократить дистанцию в отношениях «я – Россия», сделать их более интимными, а с другой, возможно, говорит об использовании механизма проекции, т. е. попытке наделить ответственностью и полномочиями управления своей жизнью внешний объект.
В группе с высокой идентичностью в зоне ядра (в отличие от респондентов группы с низким уровнем идентичности) преобладают ассоциации, погружающие во внутренний мир страны, направленные на ее внутренний имидж, т. е. можно предположить более глубокое эмоциональное переживание и вовлеченность, тяготение к «корневой» части культуры и быта. В зоне потенциальных изменений эту тенденцию продолжает широко представленный блок ассоциаций, говорящих об идентичности со страной, что косвенно подтверждает верное определение уровня идентичности этой группы при помощи других методик. В зоне периферии они также присутствуют, однако в меньшем процентном соотношении.
Полученные в пилотажном исследовании результаты дают возможность для дальнейшей разработки проблематики взаимосвязи идентичности и социальных представлений. Так, например, перспективным является рассмотрение специфики представлений о России в контексте идентичности у представителей различных социально-демографических групп, различных типов поселений и т. д. И хотя в данном исследовании в фокусе внимания была идентичность как совокупность, в будущем можно рассмотреть влияние каждого компонента идентичности на характер представлений о России. Данное исследование может иметь прикладной характер, использоваться для разработки методов патриотического воспитания, возможного нахождения ответов на вопросы о кризисе идентичности.
Ссылки:
-
1. Жодле Д. Социальное представление: феномены, концепт и теория // Социальная психология / под ред. С. Московичи. М. ; СПб., 2007. С. 372–394.
-
2. Там же.
-
3. Авраамова Е.М. Формирование новой российской идентичности // Общественные науки и современность. 1998. № 4. С. 87–92 ; Ачкасов В.А. Этническая идентичность в ситуациях общественного выбора // Журнал социологии и социальной антропологии. 1999. Т. 2, № 1. С. 131–143 ; Тишков В.А. Образ страны и национальная идентичность // Диалог культур и партнерство цивилизаций. СПб., 2009. С. 139–142.
-
4. Vergès P. L’Evocation de l’argent: une méthode pour la définition du noyau central d’une representation // Bulletin de psychologie. 1992. T. XLV, no. 405. P. 203–209.
-
5. Abric J.-C. A Structural Approach to the Social Representations // Representations of the Social: Bridging Theoretical Traditions / ed. by K. Deaux, G. Philogéne. Oxford (UK), 2001. P. 42–47.
Список литературы Представления о России и идентичность со страной: анализ в контексте структурного подхода
- Жодле Д. Социальное представление: феномены, концепт и теория//Социальная психология/под ред. С. Московичи. М.; СПб., 2007. С. 372-394.
- Авраамова Е.М. Формирование новой российской идентичности//Общественные науки и современность. 1998. № 4. С. 87-92.
- Ачкасов В.А. Этническая идентичность в ситуациях общественного выбора//Журнал социологии и социальной антропологии. 1999. Т. 2, № 1. С. 131-143.
- Тишков В.А. Образ страны и национальная идентичность//Диалог культур и партнерство цивилизаций. СПб., 2009. С. 139-142.
- Vergès P. L’Evocation de l’argent: une méthode pour la définition du noyau central d’une representation//Bulletin de psychologie. 1992. T. XLV, no. 405. P. 203-209.
- Abric J.-C. A Structural Approach to the Social Representations//Representations of the Social: Bridging Theoretical Traditions/ed. by K. Deaux, G. Philogéne. Oxford (UK), 2001. P. 42-47.