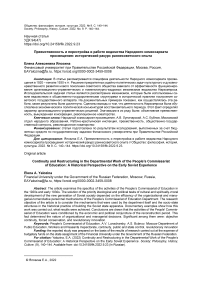Преемственность и перестройка в работе ведомства Народного комиссариата просвещения: исторический ракурс раннесоветского опыта
Автор: Ялозина Елена Алексеевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 9, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается специфика деятельности Народного комиссариата просвещения в 1920 - начале 1930-х гг. Решение приоритетных идейно-политических задач культурного и духовнонравственного развития нового поколения советского общества зависело от эффективности функционирования организационно-управленческих и номенклатурно-кадровых механизмов ведомства Наркомпроса. Исследовательской задачей статьи является рассмотрение механизмов, которые были использованы самим ведомством и общественно-государственными структурами в исторической практике построения советского государственного аппарата. На документальных примерах показано, как осуществлялась эта работа, какие результаты были достигнуты. Сделаны выводы о том, что деятельность Наркомпроса была обусловлена экономической и политической конъюнктурой восстановительного периода. Этот факт определял характер организационно-управленческих решений. Значимыми в их ряду были: объективная преемственность, вынужденная консервация, революционное новаторство.
Народный комиссариат просвещения, а.в. луначарский, а.с. бубнов, московский отдел народного образования, рабоче-крестьянская инспекция, преемственность, общественно-государственный контроль, революционное новаторство
Короткий адрес: https://sciup.org/149140999
IDR: 149140999 | УДК: 94(47) | DOI: 10.24158/fik.2022.9.23
Текст научной статьи Преемственность и перестройка в работе ведомства Народного комиссариата просвещения: исторический ракурс раннесоветского опыта
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия, ,
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia, ,
Родовым признаком отечественной системы образования является ее перманентное реформирование. Цели и задачи трансформаций на разных этапах развития общества отражали, с одной стороны, объективное требование совершенствования системы, с другой – были обусловлены социально-экономической или идейно-политической конъюнктурой времени. В контексте исторических исследований особый научный интерес и актуальность представляет тема преемственности и революционного новаторства в деятельности Народного комиссариата просвещения (Нарком-проса). Создание эффективного аппарата управления ведомства, которое в 1917–1929 гг. возглавлял А.В. Луначарский, рассматривалось в качестве приоритетного политического условия обеспечения культурного и духовно-нравственного развития нового поколения советского общества. Изучение массива нормативно-правовой партийно-правительственной документации в сфере просвещения и образования1, а также анализ работ отечественных и зарубежных исследователей, посвященных деятельности Наркомпроса в 1920-е гг. подтверждает значительное внимание власти к проблемам этого государственного центра управления просвещением2 (Богуславский, 1996; Гессен, 1926; Галин, 1990; Реформы образования в современном мире: глобальные и региональные тенденции …, 1995; Холмс, 1994; Fitzpatrick,1932; Ялозина, 2015, 2017).
Реконструкция объективной картины любого исторического процесса требует многоаспектного изучения его механизмов и результатов. Будем методологически следовать такому подходу и в качестве исследовательской цели в данной статье рассмотрим состояние организационноуправленческой системы ведомства Наркомпроса в 1920-е гг. с точки зрения ее возможностей практически решать декларируемые советской властью задачи. Важную составляющую и особенность данного исследования представляет анализ документов Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции РСФСР (НК РКИ РСФСР), сосредоточенных в фондах Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ)3, а также материалов ведомственных проверок, опубликованных на страницах советской периодической печати4.
Большевики рассматривали просвещение и реализацию принципа всеобщего обучения (всеобуч) в народном образовании в качестве важной составляющей третьего идеологического фронта социалистического строительства, поэтому в номенклатурно-кадровой политике, при назначении на руководящие посты, строго следовали партийно-классовому подходу. Специалисты среднего и нижнего звена периодически проходили аттестацию в экспертных комиссиях при отделах народного образования, подтверждая свои профессиональные качества и лояльность новой власти (Ялозина, 2017: 103–111).
Между тем недофинансирование социально-культурной сферы в восстановительный период и отсутствие взращенных советской системой просвещения кадров не позволяло Нарком-просу полноценно приступить к реализации всеобщего обязательного обучения, как это декларировалась в первые годы советской власти. До конца восстановительного периода в стране было практически полностью законсервировано строительство сети школ. Учебный процесс осуществлялся в основном за счет сохранившейся или восстановленной дореволюционной материально-технической базы. Финансирование системы образования в 1920-е гг. было многоканальным. Помимо центрального и местного бюджета использовались средства шефов, крестьянских и родительских фондов, плата за обучение и иные внебюджетные источники. Подготовка нового поколения советских учителей осуществлялась при экономии государственных средств на краткосрочных курсах (Ялозина, 2017: 41–54; 60–72).
Оптимизация системы советского образования в восстановительный период происходила при сокращении штата сотрудников ведомства Наркомпроса всех уровней и ликвидации низовых (волостных, сельских) отделов народного образования. Подобная деструктуризация продолжалась вплоть до 1926 г., что вело к издержкам в функционировании ведомства и плачевным результатам его деятельности. В поисках путей сохранения его сбалансированного состояния Наркомпрос сделал ставку на изыскание внутренних ресурсов, стимулирующих качество и результативность работы. Характерной чертой его деятельности становится проведение кампаний по обследованию качества работы отделов образования собственными силами. В этих целях активизируется ин- структорско-инспекторский аппарат, экспертные и аттестационные комиссии, проводятся регулярные совещания и съезды, увеличивается поток ведомственных циркуляров, направляемых в отделы образования1. Параллельно с внутренним администрированием осуществлялись внешние проверки Наркомпроса со стороны надведомственного органа партийно-государственного контроля – Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции (Рабкрина)2. В 1920-е гг. его возглавляли В.В. Куйбышев и Г.К. Орджоникидзе, приоритет их руководства состоял в выработке и осуществлении рационализаторских и организационно-научных задач управления, в оперативной контрольно-проверочной деятельности с привлечением представителей общественности и трудящихся. Постановления и решения объединенного Рабкрина по ряду итоговых вопросов проверки (упрощение отчетности, сокращение штатов и расходов, изменение организационной структуры, наложение дисциплинарных взысканий вплоть до отстранения и увольнения должностных лиц) признавались обязательными к исполнению учреждениями и предприятиями.
С середины 1920-х гг. от Рабкрина все чаще исходила критика в адрес Наркомпроса, в связи с тем что решаемые им задачи не учитывают требований социалистического строительства, не осуществляется перестройка деятельности ведомства. Коллегию А.В. Луначарского упрекали в том, что она представляет работу своего аппарата как сравнительно благополучную и многие целесообразные решения со стороны Рабкрина оставляет без внимания3. Оценка деятельности Наркомпроса и его руководства все более приобретала негативный характер, обстановка вокруг ведомства накалялась. В начале осени 1929 г. последовала отставка наркома просвещения А.В. Луначарского. Назначенный на должность наркома просвещения А.С. Бубнов оперативно сформулировал концепцию деятельности ведомства на новом этапе. На первый план им выдвигалась структурно-организационная задача усовершенствования и укрепления управленческого аппарата, искоренение волокиты и бюрократизма, подчинение административной работы и просвещения идейно-политическим установкам партии4.
В начале 1930 г. развернулось масштабное обследование Рабкрином деятельности центрального аппарата Наркомпроса, выполнения им единого плана культурного строительства с целью выявления и ликвидации причин застарелых проблем. Выводы по итогам проверки оказались нелицеприятными. Было указано, что многие задачи предыдущего этапа не получили своевременного и должного разрешения. В частности, это относилось к подготовке недостаточного количества кадров для культурного строительства, низким темпам развертывания школьной сети и всеобщего обучения, неэффективности кампаний по мобилизации сил общественности в решении вопросов народного образования. Последовали и организационные выводы: около 14 % должностных лиц были уволены5. Одновременно осуществлялось обследование ведомства на местах. Наиболее резонансной стала проверка Московского областного отдела народного образования (МОНО). Работа осуществлялась комиссией из 290 проверяющих. В их числе были представители Московской контрольной комиссии и рабоче-крестьянской инспекции, представители Моссовета, комсомольцы из «Легкой кавалерии» завода «Пролетарский труд», помогающие партийным и государственным органам в борьбе с бюрократизмом и бесхозяйственностью, научные работники и студенты Академии коммунистического воспитания, шефы МОНО – представители фабрики им. Фрунзе, работники типографий. Наркомат рабоче-крестьянской инспекции разработал программы обследований («планкарты»), в которых определялись цели, задачи и сроки проверки, объекты и методы ее проведения, ответственные за выполнение задания. Комиссия вскрыла множественные недостатки и нарушения в финансовой и кадровой политике отдела образования. Высокая текучесть кадров заметно отражалась на отсутствии преемственности в работе, ее низком качестве. К моменту проверки не был составлен перспективный «план культурной пятилетки», а план введения всеобуча был схематичен и не конкретизирован по округам и районам. Методическая работа в МОНО также была подвергнута критике из-за отсутствия в ней, по мнению проверяющих, четкой идейно-политической установки. Критиковалось нарушение классового подхода в подборе сотрудников, так как прослойка коммунистов и комсомольцев в учреждениях МОНО составляла 2–3 %. Было выявлено, что до 40 % преподавателей, работавших в советских учебных заведениях, окончили средние и высшие духовные школы, а на должности руководителей находились лица, лишенные избирательных прав. По результатам проверки комиссия сделала вывод о необходимости перестройки аппарата МОНО с целью его упрощения и сближения сотрудников с ответственным руководителем. Рекомендовалось упразднить управления и подотделы, вместо них создать сектора по функциональному признаку, а в них – группы ответственных исполнителей. Так, МОНО превратился в показательный и наглядный объект государственно-общественного контроля. Для всего ведомства Наркомпроса, возглавляемого А.С. Бубновым, эта проверка стала сигналом к усилению администрирования и контроля в руководстве. Рабкрин продолжал ревизионно-контрольную деятельность вплоть до 1934 г., позиционируя ее как действенный инструмент налаживания работы государственного аппарата.
Итак, изучение раннесоветского опыта оптимизации управленческой и организационноструктурной деятельности Наркомпроса позволяет полнее реконструировать специфику развития ведомства и системы просвещения. При этом отметим, что тенденция процесса объективно не могла развиваться линейно, одномерно прогрессируя. Выполнение декларативных задач номенклатурно-кадрового обновления, оптимизации и эффективности деятельности аппарата управления Наркомпроса, сформулированных в партийно-правительственных и ведомственных документах советских органов власти, осложнялось в значительной степени недофинансированием социально-культурной сферы в восстановительный период.
На протяжении 1920-х гг. экономическая и политическая конъюнктура обуславливала раз-новекторность организационной деятельности Наркомпроса. Это были траектории преемственности – использование поколенческого дореволюционного педагогического, организационно-методического опыта, кадрового потенциала, сохранившейся материально-технической базы. В качестве следующей тенденции выделим вынужденную консервацию задач, заявленных как приоритеты советской власти (свертывание всеобуча, низкий социальный и материальный статус учительства, введение платы за обучение, привлечение внебюджетных источников финансирования образования). Особое направление в преодолении проблем в деятельности Наркомпроса – преобразующая практика революционного новаторства с использованием политических рычагов администрирования и общественно-государственного контроля в целях упрочения социально-культурных институций. Исторический опыт показал, что в рассматриваемый период эта тенденция с присущими ей политизированностью и классовым подходом становится доминирующей в работе советского государства.
Список литературы Преемственность и перестройка в работе ведомства Народного комиссариата просвещения: исторический ракурс раннесоветского опыта
- Богуславский М.В. Ценностные ориентиры российского образования в первой трети ХХ века // Педагогика. 1996. № 3. С. 72-75.
- Галин С.А. Исторический опыт культурного строительства в первые годы советской власти (1917-1925). М., 1990. 142 с.
- Гессен С.И. Органы управления народным просвещением в СССР. Прага, 1926. 17 с.
- Реформы образования в современном мире: глобальные и региональные тенденции / под ред. Б.Л. Вульфсона. М., 1995. 271 с.
- Холмс Л. Социальная история России: 1917-1941. Ростов-н/Д., 1994. 140 с.
- Ялозина Е.А. Ретроспектива отечественного школьного всеобуча: в 2 кн. Ростов-н/Д., 2015. Кн. 1. 202 с.
- Ялозина Е.А. Ретроспектива отечественного школьного всеобуча: в 2 кн. Ростов-н/Д., 2017. Кн. 2. 152 с.
- Fitzpatrick Sh. Education and Social Mobility in the Soviet Union, 1921-1932. N. Y., 1979. 355 р.