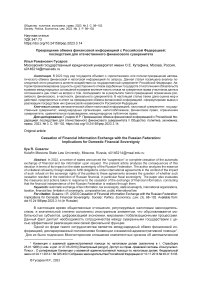Прекращение обмена финансовой информацией с Российской Федерацией: последствия для отечественного финансового суверенитета
Автор: Гусаров Илья Романович
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 3, 2023 года.
Бесплатный доступ
В 2022 году ряд государств объявил о «приостановке» или полном прекращении автоматического обмена финансовой и налоговой информацией по запросу. Данная статья посвящена анализу последствий этого решения в аспекте воздействия на государственный суверенитет Российской Федерации. Автором проанализирована сущность одностороннего отказа зарубежных государств от исполнения обязательств в рамках международных соглашений в разрезе влияния такого отказа на суверенные права участников данных соглашений и дан ответ на вопрос о том, последовало ли в результате такого прекращения ограничение российского финансового, в частности, фискального суверенитета. В настоящей статье также дана оценка мер и действий, предпринятых в ответ на прекращение обмена финансовой информацией, сформулирован вывод о реализации посредством них финансовой независимости Российской Федерации.
Автоматический обмен налоговой информацией, налоговый суверенитет, государственный суверенитет, международные организации, налогообложение, финансовое право, ограничение суверенитета, сравнительное правоведение, международное публичное право
Короткий адрес: https://sciup.org/149142194
IDR: 149142194 | УДК: 347.73 | DOI: 10.24158/pep.2023.3.14
Текст научной статьи Прекращение обмена финансовой информацией с Российской Федерацией: последствия для отечественного финансового суверенитета
В настоящее время общественные отношения, регулируемые налоговым законодательством, в значительной степени осложнены иностранным элементом, что обусловливается мобильностью субъектов, цифровизацией экономики, мировыми глобализационными процессами. Данный факт диктует необходимость сотрудничества между суверенными государствами с целью эффективной реализации ими своей фискальной функции.
Одной из форм такого сотрудничества является международный обмен финансовой информацией, декларированный положениями Конвенции о взаимной административной помощи1. ©Для их было подписано Многостороннее оглашение компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией (MCAA CRS)1. В отечественном законодательстве положения указанных соглашений были имплементированы в главе 20.1 Налогового кодекса, установившей обязанность российских финансовых организаций по идентификации среди клиентов налоговых нерезидентов с целью предоставления сведений о них в Федеральную налоговую службу2.
Представляется логичным, что нарушение государством обязательств, принятых в рамках международных публичных образований или многосторонних соглашений, может повлечь за собой утрату им льгот или иных выгод, приобретенных с возложением на себя таких обязательств. Однако такие негативные последствия, по нашему мнению, не влияют на способность государства реализовывать набор полномочий, в совокупности составляющих его финансовый суверенитет.
Примером подтверждения данного суждения служит одностороннее прекращение рядом зарубежных государств автоматического обмена информацией с Российской Федерацией в рамках достигнутых ранее соглашений. Так, на протяжении 2022 г. об этом заявили Германия, Литва, Австрия, Латвия, Словения, Словакия, Эстония. Стоит отметить также, что определенные государства, среди которых США, Канада и Великобритания, не обеспечивали автоматический обмен с Россией и до 2022 г. Более того, США с 2010 г. реализует положения Закона о налоговой отчетности по зарубежным счетам (FATCA)3, обязывающие иностранные финансовые организации регулярно предоставлять установленные формы отчетности в Службу внутренних доходов США, раскрывающие сведения о счетах американских налоговых резидентов и движения средств по ним.
Тем не менее, по состоянию на март 2023 г., единственным государством, реально предпринявшим юридически оформленные действия по приостановке автоматического обмена финансовой информацией с Россией, является Швейцария, Бундесрат которой утвердил 16.09.2022 своим решением резолюцию о приостановлении автоматического обмена финансовой информацией с Россией начиная с 22.09.2022 (Burckhardt, Lumengo, 2022: 617). Необходимо подчеркнуть, что Швейцария приостановила действие именно автоматического обмена (CRS), предоставление налоговой информации по запросу в рамках Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам4 продолжает осуществляться, несмотря на выход Российской Федерации из Совета Европы5. В каком формате планируется отказ от предоставления Российской Федерации финансовой информации остальными государствами – на момент написания настоящей статьи остается неизвестным.
В качестве ответной меры в приказе от 28.10.2022 г. Федеральная налоговая служба (далее – ФНС) исключила Швейцарию из перечня государств, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией6. Более того, с 1 января 2023 г. вступил в силу другой перечень, который ведет ФНС в отношении государств, не обеспечивающих обмен финансовой информацией с Российской Федерацией, в него включены Канада и Острова Кайман7. Указанные меры стали симметричным ответом на действия государств, прекративших на практике обмен финансовой информацией (как видно из перечней ФНС, не все государства, заявившие о намерении прекратить обмен, фактически предприняли соответствующие этому решению. Однако сомнений в том, что указанные реестры будут дополнены прочими государствами, которые в действительности остановят автоматический обмен или обмен по запросу, у нас нет), заключающимся в поражении прав таких государств в предоставлении финансовой информации в автоматическом порядке или по запросу компетентного органа.
Отдельного внимания заслуживает форма отказа от исполнения обязательств по двусторонним соглашениям компетентных органов иностранных государств с ФНС и Конвенцией MCAA CRS. В частности, пример Латвии свидетельствует о беспрецедентности принятого решения с точки зрения соответствия его процессуальным нормам международного права и юридической техники. Так, прекращение автоматического обмена, как и действия Соглашения об избежании двойного налогообложения (далее – СоИДН)1, было названо латвийской стороной «приостановлением», что в теории должно указывать на временность и неокончательность такого решения. Однако как Конвенция MCAA CRS не предусматривает «приостановления» действия ее положений ратифицировавшей стороной в отношении конкретного государства, так и СоИДН с Латвийской Республикой не предполагало такой возможности. Как установлено в ст. 31 «приостановленного» соглашения, «любое договаривающееся государство может прекратить действие соглашения по дипломатическим каналам, направив письменное уведомление о прекращении действия не позднее чем за шесть месяцев до окончания любого календарного года»2.
Неординарность сложившейся ситуации потребовала от российской стороны действий, поэтому 26.09.2022 г. Президентом РФ был издан указ о приостановлении действия указанного выше документа3, что было продиктовано необходимостью юридического оформления симметричной ответной меры на период доофициальной денонсации указанного соглашения по установленной процедуре в представительном органе. Соответствующий законопроект4 был внесен 23.12.2022 и на момент подготовки настоящей статьи находится на стадии прохождения в Совете Федерации.
Таким образом, можно говорить о несоответствии решений о прекращении или «приостановке» обмена финансовой информацией с Россией в рамках Конвенции MCAA CRS5, поскольку такие решения напрямую противоречат пункту 1.1 раздела 2 указанного соглашения6, устанавливающего обязательство компетентных органов присоединившихся государств обмениваться финансовой информацией. Несмотря на то, что Конвенция MCAA CRS7 предусматривает принцип «невзаимности» (Non-Reciprocity Principle – англ.), суть его четко определена: он применяется государствами при отказе в получении финансовой информации в автоматическом порядке, но никак не в качестве дискриминационных действий по отношению к отдельным государствам, заключающихся в отказе в предоставлении данных.
В рамках автоматического обмена в ФНС непрерывно поступали данные из зарубежных финансовых организаций о наличии в них счетов и о движении на них денежных средств российских налоговых резидентов, что позволяло своевременно обнаружить налоговую базу, подлежащую декларированию и налогообложению.
Таким образом, поскольку прекращение автоматического обмена затрудняет получение сведений о подлежащих налогообложению доходах резидентов в иностранных государствах, сегодня крайне актуальным является вопрос рассмотрения действий иностранных государств по прекращению обмена финансовой информацией в качестве внешнего воздействия, влияющего на отечественный налоговый суверенитет. По нашему мнению, они не затрагивают российскую независимость в налоговой сфере, поскольку прекращение автоматического обмена финансовой информацией хотя и усложняет процесс обнаружения налоговым органом налогооблагаемой базы в иностранных юрисдикциях, и, как следствие, затрудняет процесс сбора налоговых платежей, однако никаким образом не ограничивает право российского государства на взимание налога с доходов, возникших у российских налоговых резидентов за рубежом и применение мер принуждения в отношении этих лиц, в том числе с учетом механизмов международного взаимодействия (исполнение решений российского суда, Интерпола и др.).
Также в данном конкретном случае односторонний отказ от исполнения двусторонних и многосторонних международных соглашений об обмене финансовой информацией повлек отмену Россией добровольного ограничения в собственном суверенном праве в налоговой области: в случае прекращения обмена финансовой информацией иностранным государством с Россией для резидентов, имеющих доли в контролируемых иностранных компаниях такого государства, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях, остановивших обмен, прекращает действовать исключение, установленное в пп. 2 п. 4 ст. 25.13 НК РФ1, в соответствии с которым часть лиц утрачивает возможность не признаваться контролирующими представителями иностранных организаций, инкорпорированных в государствах, не осуществляющий обмен финансовой информацией с РФ.
Однако помимо указанной выше льготы прекращение обмена приводит и к иным неблагоприятным последствиям как для отечественных налоговых резидентов, так и для иностранных, осуществляющих деятельность или имеющих активы в РФ. Так, среди прочего, на указанных лиц налагаются дополнительные обязанности по предоставлению отчетов о движении средств и иных финансовых активов, находящихся на счетах в прекратившем обмен государстве, а также обязанность по репатриации валюты от внешнеторговых сделок и займов в таких государствах.
Введение указанных выше мер свидетельствует о реализации Российской Федерацией своих суверенных прав, поскольку такие меры имеют целью в первую очередь выполнение фискальной функции государства, составляющей ядро финансового суверенитета.
Логичным представляется вывод, согласно которому как заключение двусторонних и многосторонних договоров в налоговой сфере, так и односторонний отказ от их исполнения не ограничивают налоговый суверенитет государств, поскольку принятие на себя обязательств, связанных с добровольным ограничением суверенных полномочий, обуславливается стремлением приобрести определенные льготы и выгоды в сфере налогового администрирования, которые компенсируют принятые ограничения, при условии, что длительность их действия будет совпадать.
К аналогичному выводу приходят и отечественные правоведы, заявляющие об изначально отсутствующем воздействии на суверенитет государства при заключении дву- и многосторонних международных договоров. Еще в середине ХХ века И.Д. Левин справедливо указал на то, что договоры, которые не затрагивают саму субстанцию суверенитета (правоспособность и дееспособность государства в налоговой сфере), независимость государства не ограничивают (Левин, 1948: 78–79).
Данной позиции придерживаются и современные правоведы, в частности, Р.А. Шепенко отмечает тот факт, что межгосударственные налоговые отношения, регулируемые международными договорами, охватывают ограниченный набор вопросов, что позволяет странам сохранять практически полную автономию в разработке собственных налоговых систем и политик (Шепенко, 2014: 48–55).
Таким образом, отвечая на вопрос о последствиях одностороннего отказа ряда государств от автоматического и простого обмена финансовой информацией с Российской Федерацией для отечественного финансового и, в частности, налогового суверенитета, можно однозначно констатировать, что такой отказ никоим образом на него не влияет и независимость не ограничивает. Напротив, логично предположить, что одностороннее прекращение исполнения рядом государств обязательств, принятых ими в рамках международных соглашений в отношении России, спровоцировало с ее стороны ответные действия, которые следует расценивать как действительное проявление ее финансового суверенитета.
Список литературы Прекращение обмена финансовой информацией с Российской Федерацией: последствия для отечественного финансового суверенитета
- Левин И.Д. Суверенитет. М., 1948. 376 с.
- Шепенко Р.А. Суверенитет и его влияние на вопросы налогообложения // Право и экономика. 2014. № 7 (317). С. 48-55.
- Burckhardt P., Lumengo P.L. Schweizer Sanktionsrecht: Ein Überblick über die Massnahmen der Schweiz im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine // Ukraine-Krieg und Recht Schriftleitung. Muenchen, 2022. S. 610-617. (на нем. яз.).