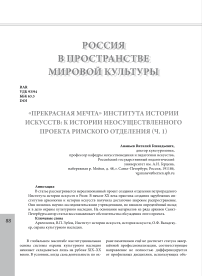«Прекрасная мечта» Института истории искусств: к истории неосуществленного проекта римского отделения (ч. 1)
Автор: Ананьев В.Г.
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Россия в пространстве мировой культуры
Статья в выпуске: 2, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается нереализованный проект создания отделения петроградского Института истории искусств в Риме. В начале ХХ века практика создания зарубежных институтов археологии и истории искусств получила достаточно широкое распространение. Они являлись научно-исследовательскими учреждениями, но вносили определённый вклад и в дело охраны культурного наследия. На основании материалов из ряда архивов СанктПетербурга автор статьи восстанавливает обстоятельства обсуждения этого проекта.
Археология, В.П. Зубов, Институт истории искусств, история искусств, О.Ф. Вальдгауер, охрана культурного наследия
Короткий адрес: https://sciup.org/170210951
IDR: 170210951 | УДК: 93/94
Текст научной статьи «Прекрасная мечта» Института истории искусств: к истории неосуществленного проекта римского отделения (ч. 1)
В глобальном масштабе институциональная основа системы охраны культурного наследия начинает складываться лишь на рубеже XIX–ХХ веков. В условиях, когда сама деятельность по ох- ране памятников ещё не достигает статуса завершённой профессионализации, соответствующее направление не полностью дифференцируется от профильных дисциплин, использующих объ- екты наследия в собственных познавательных целях. В первую очередь, к числу таковых дисциплин относятся археология, искусствоведение, история и антропология. Поэтому вполне понятно, что функции по охране культурного наследия принимают на себя первые научно-исследовательские институты такой гуманитарной направленности.
В европейской практике к рубежу XIX– ХХ веков важнейшее место среди таких институтов начинают занимать институты зарубежные, выступающие в роли своеобразных опорных пунктов научного освоения учёными ведущих европейских стран культурного наследия, имеющего общепризнанное универсальное значение, но находящегося на территории стран, догоняющих флагманов развития капитализма. В первую очередь, это касалось наследия античности (как греческой, так и римской), а также итальянского Ренессанса. Немецкие, французские, английские, австрийские институты и школы возникают в Риме, Флоренции, Афинах. Включается (хотя и с существенным запаздыванием и в очень ограниченном масштабе) в этот процесс и Россия. Соответствующие инициативы здесь были связаны преимущественно с деятельностью Императорской академии наук. Так, в 1894 году в Константинополе основывается Русский археологический институт1. С 1879 году предпринимаются попытки открыть русское археологическое учреждение в Афи-нах2. В 1902 году при Академии наук вводится должность учёного корреспондента в Риме как своеобразный субститут постояннодействующей комиссии3. Сам формат такого научно-исследовательского учреждения, вероятно, влияет и на создание в Санкт-Петербурге в 1912 году по инициативе графа В.П. Зубова Института истории искусств (далее — Институт)4, призванного стать «центром для изучения истории ис- кусств в точном значении этого понятия»5. Его возможным прототипом был хорошо известный В.П. Зубову Немецкий институт истории искусств во Флоренции6.
Мне уже приходилось писать о той важной роли, которую Институт сыграл в музейном деле и в области охраны памятников в нашей стране в первой трети ХХ века7. В данной краткой публикации будет рассмотрен вопрос, связанный с попытками Института расширить поле деятельности и включиться в изучение и охрану культурного наследия за пределами России, используя апробированный к тому времени международной практикой формат создания иностранного филиала/института. Материалы, сохранившиеся в фонде Института в Центральном государственном архиве литературы и искусства Санкт-Петербурга и прежде не привлекавшие внимания исследователей, позволяют в общих чертах восстановить эту любопытную страницу из истории одного из важнейших интеллектуальных центров Петрограда–Ленинграда 1920-х годов.
В печатном отчёте, подготовленном как итог первых 12 лет деятельности Института, об этом говорилось следующим образом: «Институту были предоставлены постановлением Коллегии Наркомпроса от 27 февраля [1920 г. — А.В.Г.] новые широкие возможности признанием за ним российского значения, что выразилось в соответственном переименовании его и предоставлении ему права открытия иногородних и заграничных отделений. Последнее право отвечало давнишней любимой мечте Института, которая, мы верим, когда-нибудь и сбудется, об учреждении русскими научными силами художественно-исторических исследовательских пунктов в Италии, прежде всего в Риме с его совершенно исключительным значением для мировой истории искусства. Идея основания Римского Отделения Института остаётся, к сожалению, для нас всё ещё прекрасной мечтою...»8. Архивные документы позволяют уточнить определённые детали этого события.
Сама идея создания заграничного отделения возникла в стенах Института ещё до Октябрьской революции. Весной-летом 1917 года на его базе действовала комиссия по вопросу о целесообразности создания в России специального Министерства искусств. В рамках комиссии функционировало несколько подкомиссий. Одна из них была посвящена археологическому и художественно-историческому образованию. О её работах можно составить представление, среди прочего, благодаря сохранившимся в архивном фонде её члена9, академика Н.П. Кондакова открыткам-приглашениям секретаря подкомиссии (впоследствии — учёного секретаря Института) В.Н. Ракинта. Так, например, очередное заседание подкомиссии было назначено в помещении Института (особняк Зубовых на Исаакиевской площади) на половину девятого вечера 5 апреля 1917 года. Под председательством филолога-классика почётного академика Ф.Ф. Зелинского собравшиеся должны были заслушать доклады Н.Л. Окунева и О.Ф. Вальдгауера о задачах археологических институтов, а также В.П. Зубова и В.Н. Ракинта о задачах художественно-исторических институтов10. Машинописный протокол заседания сообщает, что на том заседании (на котором председатель Ф.Ф. Зелинский, кстати, не присутствовал) в число членов подкомиссии были кооптированы член-корреспондент Академии наук М.И. Ростовцев, а также академики Н.Я. Марр и В.В. Бартольд. Собравшиеся заслушали доклады О.Ф. Вальдгауера (на заявленную тему), дополнения к предыдущему докладу Н.Л. Окунева о Русском археологическом институте в Константинополе и проекте Кавказского историко-археологического института в Тифлисе, а также доклад В.Н. Ракин-та о художественно-исторических институтах и дополнения к нему В.П. Зубова, в том числе, о проекте Русского института в Риме11. В более позднем отчёте Института конкретизировалось, что среди подготовленных к печати материалов работы подкомиссий сохранились следующие доклады по теме: «4) О.Ф. Вальдгауер и Н.Л. Окунев, Об археологическом образовании в России и заграницей и в частности об археологических институтах. 5) В.Н. Ракинт, Художественно-исторические институты, как научные и образовательные учреждения. 6) В.П. Зубов и Д.А. Шмидт, русские художественно-исторические институты заграницей»12.
Содержание докладов в общих чертах может быть восстановлено, в частности, на основании подготовительных материалов, сохранившихся в фонде академика Н.Я. Марра (и ошибочно помещённых там в дело под названием «Материалы конференции Центральных Музеев и заметки Н.Я. Марра»)13. В докладах предлагалось создать по одному такому институту в Петрограде, Москве, Киеве и Риме. При русских — постоянные отделения в Новгороде, Пскове, Костроме, Владимире, Чернигове и т.д. Они «преследуют помимо научных и научновспомогательных функций, также и задачи возможно широкого распространения, путём лекций, выездных курсов, экскурсий и т.д., понимания явлений искусства, любви и внимания к художественному прошлому страны и сознания важности развития художественной культуры». Археологические институты выполняют учебные функции, а также «заведуют и чисто научными предприятиями: раскопками, учёными экспедициями и т.п., причём они же имеют право наблюдения за местными археологическими музеями». Одесский институт должен иметь право «главного управления за местными археологическими музеями». Такие же институты планируются к открытию в Тифлисе,
Ташкенте, Иркутске, Казани и заграницей (Рим, Афины, Константинополь)14.
Таким образом, идея создания художественно-исторического института за пределами России обсуждалась в Институте уже весной 1917 года. Некоторое время спустя, когда первая волна тягот, связанных с революцией, Гражданской войной и политикой военного коммунизма, казалось бы, несколько отступила, Институт вернулся к этому проекту. На этот раз, стараясь заручиться поддержкой новых властей.
2 октября 1919 года на очередном заседании совета Института ставший к этому времени учёным секретарем Института В.Н. Ракинт сообщил о переименовании Института в Российский институт истории искусств «как единственного в России заведения с такими задачами и объёмом деятельности». И в этой связи поставил вопрос о том, что надо наконец получить разрешение на открытие институтских отделений в России и заграницей, при этом отметив, что «на первое место ещё в работах Комиссии при Институте, под председательством академика М.И. Ростовцева (весна и лето 1917 г.), был выдвинут Русский Художественно-Исторический институт в Риме»15. В обсуждении этого вопроса искусствовед Д.А. Шмидт (сотрудник Эрмитажа и многолетний преподаватель Института) напомнил об идее учреждения такого же института в Брюсселе (что вполне отвечало его научным интересам, сконцентрированным на фламандской и голландской живописи), а Л.А. Мацулевич (также совмещавший работу в крупнейшем музее страны с преподаванием в Институте и занимавшийся, среди прочего, древнерусским и византийским искусством) указал «на желательность открытия в первую очередь Отделения института истории искусств типа исследовательского института в Новгороде (в работах вышеназванной комиссии Новгородское отделение Института истории искусств из русских его отделений постановлено на первое место)»16. Совет постановил — «войти в ходатайство». И, действительно, вскоре, казалось, дело сдвинулось с мёртвой точки.
19 февраля 1920 года совет Института «в порядке текущих дел» заслушал внеочередное за- явление О.Ф. Вальдгауера о создании отделения в Риме17. Вероятно, заявление в основных своих положениях совпадало со следующим документом, автограф которого руки О.Ф. Вальдгауера сохранился в фонде Института:
«Об Отделении Российского института истории искусств в Риме
Преподавание истории искусств в центральном институте в Петербурге может носить лишь теоретический характер. Хотя сокровища Эрмитажа и других музеев дают возможности привлекать во многих случаях и оригиналы, но всё-таки основательное изучение наиболее важных вопросов осуждено на неудачу ввиду необходимости ограничиваться воспроизведениями. Если, таким образом, студент истории искусства и получил в свои руки весь аппарат научной техники во время своего пребывания в основном, центральном учреждении, то он научится действительно пользоваться этим аппаратом, лишь работая над оригиналами. По таким соображениям уже при самом основании института была принята во внимание необходимость основания отделений на местах, в центрах художественного производства. Новгородское отделение института послужит важнейшим фактором для изучения древнерусского искусства и несомненно окажет величайшую услугу образованию кадра историков русского искусства, необходимого в особенности для работы при провинциальных учебных заведениях и музеях. Не менее важно, однако, учреждение таких же отделений заграницей, принимая особенно во внимание, что Эрмитаж является пока единственным крупным музеем западноевропейского искусства, а материал, хранящийся в нём, естественно ограничен, а следовательно, и возможности основательного изучения западноевропейского искусства наталкиваются на большие затруднения. Российский институт истории искусств, заботясь о развитии художественно-исторического образования как такового и считаясь с необходимостью по возможности расширить круг лиц со специальным в этой области образованием обязан дать своим слушателям возможность посредством изучения истории искусства во всех его проявлениях на оригиналах. Только таким образом Россия станет культурным фактором и в этой области и будет в состоянии обога- титься специальными учреждениями и музеями, которые должны были бы целой сетью покрыть всю страну.
Европейские страны давно уже пошли по пути учреждения особых органов для изучения искусства на местах. Германский археологический институт имеет свои отделения в Риме и Афинах, Франция, Англия, Америка основали специальные школы в тех же городах, Дания использует свой Ny Сarlsberg Fond18 для снаряжения учёных экспедиций. До сих пор, правда, отдавалось предпочтение античному искусству, а история новейшего искусства имела в своём распоряжении лишь один орган — художественно-исторический институт во Флоренции. Необходимо, чтобы Российский институт истории искусств не отставал и в первую очередь учредил себе отделение в одной из классических стран искусства. Институт встал на точку зрения равноправности античного и нового искусства, поэтому естественно, чтобы первое учреждаемое заграницей отделение отвечало бы потребностям и той, и другой группы. Такое соображение заставляет нас остановиться на естественном центре классического искусства — Риме. В Риме сосредоточены не только сокровища классической древности и Возрождения, древнехристианское искусство может быть изучено лишь в церквах и катакомбах Вечного города. Удобство сообщений, наконец, дает возможность пользоваться Римом как исходной точкой для всякого рода экспедиций.
Принимая Рим как местоположение первого заграничного отделения Института, задачи по организации его принимают следующие формы.
Римское отделение Института является специальным научным учреждением для лиц, окончивших курс Института в Петербурге. Оно имеет целью подготовку их к академической и музейной деятельности.
Для этой цели Отделение учреждает специальную библиотеку по античному, средневековому и новому искусству, в которой откомандированные для занятий при Отделении лица могли бы находить необходимый научный аппарат. Для наблюдения за их работами и для руководства ими Отделение обладает штатом специ- алистов по новому, средневековому и античному искусству. В обязанности учёного персонала входит: 1) устройство практических занятий на оригиналах, 2) устройство художественно-исторических экскурсий по провинции, 3) производство специальных исследований, 4) издание трудов занимающихся при Отделении специалистов, 5) сношение с научными учреждениями, родственными ему по типу, основанными другими национальностями, 6) участие в международных художественно-исторических научных предприятиях, 7) поддержка своим советом художественно-исторических учреждений и музеев в России, 8) ежегодные доклады в центральном Институте о ходе работ в Отделении и о результатах международной научной работы в этой области.
Штаты, необходимые для произведения этой работы, были бы следующими:В европейской практике к рубежу XIX–ХХ веков важнейшее место среди таких институтов начинают занимать институты зарубежные, выступающие в роли своеобразных опорных пунктов научного освоения учёными ведущих европейских стран культурного наследия, имеющего общепризнанное универсальное значение, но находящегося на территории стран, догоняющих флагманов развития капитализма. В первую очередь, это касалось наследия античности (как греческой, так и римской), а также итальянского Ренессанса. Немецкие, французские, английские, австрийские институты и школы возникают в Риме, Флоренции, Афинах. Включается (хотя и с существенным запаздыванием и в очень ограниченном масштабе) в этот процесс и Россия. Соответствующие инициативы здесь были связаны преимущественно с деятельностью Императорской академии наук. Так, в 1894 году в Константинополе основывается Русский археологический институт19. С 1879 году предпринимаются попытки открыть русское археологическое учреждение в Афинах20. В 1902 году при Академии наук вводится должность учёного корреспондента в Риме как своеобразный субститут постоянно- действующей комиссии21. Сам формат такого научно-исследовательского учреждения, вероятно, влияет и на создание в Санкт-Петербурге в 1912 году по инициативе графа В.П. Зубова Института истории искусств (далее — Институт)22, призванного стать «центром для изучения истории искусств в точном значении этого понятия»23. Его возможным прототипом был хорошо известный В.П. Зубову Немецкий институт истории искусств во Флоренции24.
Мне уже приходилось писать о той важной роли, которую Институт сыграл в музейном деле и в области охраны памятников в нашей стране в первой трети ХХ века25. В данной краткой публикации будет рассмотрен вопрос, связанный с попытками Института расширить поле деятельности и включиться в изучение и охрану культурного наследия за пределами России, используя апробированный к тому времени международной практикой формат создания иностранного филиала/института. Материалы, сохранившиеся в фонде Института в Центральном государственном архиве литературы и искусства Санкт-Петербурга и прежде не привлекавшие внимания исследователей, позволяют в общих чертах восстановить эту любопытную страницу из истории одного из важнейших интеллектуальных центров Петрограда–Ленинграда 1920-х годов.
В печатном отчёте, подготовленном как итог первых 12 лет деятельности Института, об этом говорилось следующим образом: «Институту были предоставлены постановлением Коллегии Наркомпроса от 27 февраля [1920 г. — А.В.Г.] новые широкие возможности признанием за ним российского значения, что выразилось в соответственном переименовании его и предоставлении ему права открытия иногородних и заграничных отделений. Последнее право отвечало давнишней любимой мечте Института, которая, мы верим, когда-нибудь и сбудется, об учреждении русскими научными силами художественно-исторических исследовательских пунктов в Италии, прежде всего в Риме с его совершенно исключительным значением для мировой истории искусства. Идея основания Римского Отделения Института остаётся, к сожалению, для нас всё ещё прекрасной мечтою...»26. Архивные документы позволяют уточнить определённые детали этого события.
Сама идея создания заграничного отделения возникла в стенах Института ещё до Октябрьской революции. Весной-летом 1917 года на его базе действовала комиссия по вопросу о целесообразности создания в России специального Министерства искусств. В рамках комиссии функционировало несколько подкомиссий. Одна из них была посвящена археологическому и художественно-историческому образованию. О её работах можно составить представление, среди прочего, благодаря сохранившимся в архивном фонде её члена27, академика Н.П. Кондакова открыткам-приглашениям секретаря подкомиссии (впоследствии — учёного секретаря Института) В.Н. Ракинта. Так, например, очередное заседание подкомиссии было назначено в помещении Института (особняк Зубовых на Исаакиевской площади) на половину девятого вечера 5 апреля 1917 года. Под председательством филолога-классика почётного академика Ф.Ф. Зелинского собравшиеся должны были заслушать доклады Н.Л. Окунева и О.Ф. Вальдгауера о задачах археологических институтов, а также В.П. Зубова и В.Н. Ракинта о задачах художественно-исторических институ-тов28. Машинописный протокол заседания сооб- щает, что на том заседании (на котором председатель Ф.Ф. Зелинский, кстати, не присутствовал) в число членов подкомиссии были кооптированы член-корреспондент Академии наук М.И. Ростовцев, а также академики Н.Я. Марр и В.В. Бартольд. Собравшиеся заслушали доклады О.Ф. Вальдга-уера (на заявленную тему), дополнения к предыдущему докладу Н.Л. Окунева о Русском археологическом институте в Константинополе и проекте Кавказского историко-археологического института в Тифлисе, а также доклад В.Н. Ра-кинта о художественно-исторических институтах и дополнения к нему В.П. Зубова, в том числе, о проекте Русского института в Риме29. В более позднем отчёте Института конкретизировалось, что среди подготовленных к печати материалов работы подкомиссий сохранились следующие доклады по теме: «4) О.Ф. Вальдгауер и Н.Л. Окунев, Об археологическом образовании в России и заграницей и в частности об археологических институтах. 5) В.Н. Ракинт, Художественно-исторические институты, как научные и образовательные учреждения. 6) В.П. Зубов и Д.А. Шмидт, русские художественно-исторические институты заграницей»30.
Содержание докладов в общих чертах может быть восстановлено, в частности, на основании подготовительных материалов, сохранившихся в фонде академика Н.Я. Марра (и ошибочно помещённых там в дело под названием «Материалы конференции Центральных Музеев и заметки Н.Я. Марра»)31. В докладах предлагалось создать по одному такому институту в Петрограде, Москве, Киеве и Риме. При русских — постоянные отделения в Новгороде, Пскове, Костроме, Владимире, Чернигове и т.д. Они «преследуют помимо научных и научно-вспомогательных функций, также и задачи возможно широкого распространения, путём лекций, выездных курсов, экскурсий и т.д., понимания явлений искусства, любви и внимания к художественному прошлому страны и сознания важности развития художественной культуры». Археологические институты вы- полняют учебные функции, а также «заведуют и чисто научными предприятиями: раскопками, учёными экспедициями и т.п., причём они же имеют право наблюдения за местными археологическими музеями». Одесский институт должен иметь право «главного управления за местными археологическими музеями». Такие же институты планируются к открытию в Тифлисе, Ташкенте, Иркутске, Казани и заграницей (Рим, Афины, Константинополь)32.
Таким образом, идея создания художественно-исторического института за пределами России обсуждалась в Институте уже весной 1917 года. Некоторое время спустя, когда первая волна тягот, связанных с революцией, Гражданской войной и политикой военного коммунизма, казалось бы, несколько отступила, Институт вернулся к этому проекту. На этот раз, стараясь заручиться поддержкой новых властей.
2 октября 1919 года на очередном заседании совета Института ставший к этому времени учёным секретарем Института В.Н. Ракинт сообщил о переименовании Института в Российский институт истории искусств «как единственного в России заведения с такими задачами и объёмом деятельности». И в этой связи поставил вопрос о том, что надо наконец получить разрешение на открытие институтских отделений в России и заграницей, при этом отметив, что «на первое место ещё в работах Комиссии при Институте, под председательством академика М.И. Ростовцева (весна и лето 1917 г.), был выдвинут Русский Художественно-Исторический институт в Риме»33. В обсуждении этого вопроса искусствовед Д.А. Шмидт (сотрудник Эрмитажа и многолетний преподаватель Института) напомнил об идее учреждения такого же института в Брюсселе (что вполне отвечало его научным интересам, сконцентрированным на фламандской и голландской живописи), а Л.А. Мацулевич (также совмещавший работу в крупнейшем музее страны с преподаванием в Институте и занимавшийся, среди прочего, древнерусским и византийским искусством) указал «на желательность открытия в первую очередь Отделения института истории искусств типа исследовательского института в Новгороде (в работах вышеназванной комис- сии Новгородское отделение Института истории искусств из русских его отделений постановлено на первое место)»34. Совет постановил — «войти в ходатайство». И, действительно, вскоре, казалось, дело сдвинулось с мёртвой точки.
19 февраля 1920 года совет Института «в порядке текущих дел» заслушал внеочередное заявление О.Ф. Вальдгауера о создании отделения в Риме35. Вероятно, заявление в основных своих положениях совпадало со следующим документом, автограф которого руки О.Ф. Вальдгауера сохранился в фонде Института:
«Об Отделении Российского института истории искусств в Риме
Преподавание истории искусств в центральном институте в Петербурге может носить лишь теоретический характер. Хотя сокровища Эрмитажа и других музеев дают возможности привлекать во многих случаях и оригиналы, но всё-таки основательное изучение наиболее важных вопросов осуждено на неудачу ввиду необходимости ограничиваться воспроизведениями. Если, таким образом, студент истории искусства и получил в свои руки весь аппарат научной техники во время своего пребывания в основном, центральном учреждении, то он научится действительно пользоваться этим аппаратом, лишь работая над оригиналами. По таким соображениям уже при самом основании института была принята во внимание необходимость основания отделений на местах, в центрах художественного производства. Новгородское отделение института послужит важнейшим фактором для изучения древнерусского искусства и несомненно окажет величайшую услугу образованию кадра историков русского искусства, необходимого в особенности для работы при провинциальных учебных заведениях и музеях. Не менее важно, однако, учреждение таких же отделений заграницей, принимая особенно во внимание, что Эрмитаж является пока единственным крупным музеем западноевропейского искусства, а материал, хранящийся в нём, естественно ограничен, а, следовательно, и возможности основательного изучения западноевропейского искусства наталкиваются на большие затруднения. Российский институт истории искусств, заботясь о развитии художественно-исторического образования как такового и считаясь с необходимостью по возможности расширить круг лиц со специальным в этой области образованием обязан дать своим слушателям возможность посредством изучения истории искусства во всех его проявлениях на оригиналах. Только таким образом Россия станет культурным фактором и в этой области и будет в состоянии обогатиться специальными учреждениями и музеями, которые должны были бы целой сетью покрыть всю страну.
Европейские страны давно уже пошли по пути учреждения особых органов для изучения искусства на местах. Германский археологический институт имеет свои отделения в Риме и Афинах, Франция, Англия, Америка основали специальные школы в тех же городах, Дания использует свой Ny Сarlsberg Fond36 для снаряжения учёных экспедиций. До сих пор, правда, отдавалось предпочтение античному искусству, а история новейшего искусства имела в своём распоряжении лишь один орган — художественно-исторический институт во Флоренции. Необходимо, чтобы Российский институт истории искусств не отставал и в первую очередь учредил себе отделение в одной из классических стран искусства. Институт встал на точку зрения равноправности античного и нового искусства, поэтому естественно, чтобы первое учреждаемое заграницей отделение отвечало бы потребностям и той, и другой группы. Такое соображение заставляет нас остановиться на естественном центре классического искусства — Риме. В Риме сосредоточены не только сокровища классической древности и Возрождения, древнехристианское искусство может быть изучено лишь в церквах и катакомбах Вечного города. Удобство сообщений, наконец, дает возможность пользоваться Римом как исходной точкой для всякого рода экспедиций.
Принимая Рим как местоположение первого заграничного отделения Института, задачи по организации его принимают следующие формы.
Римское отделение Института является специальным научным учреждением для лиц, окончивших курс Института в Петербурге. Оно имеет целью подготовку их к академической и музейной деятельности.
Для этой цели Отделение учреждает специальную библиотеку по античному, средневековому и новому искусству, в которой откомандированные для занятий при Отделении лица могли бы находить необходимый научный аппарат. Для наблюдения за их работами и для руководства ими Отделение обладает штатом специалистов по новому, средневековому и античному искусству. В обязанности учёного персонала входит: 1) устройство практических занятий на оригиналах, 2) устройство художественно-исторических экскурсий по провинции, 3) производство специальных исследований, 4) издание трудов занимающихся при Отделении специалистов, 5) сношение с научными учреждениями, родственными ему по типу, основанными другими национальностями, 6) участие в международных художественно-исторических научных предприятиях, 7) поддержка своим советом художественно-исторических учреждений и музеев в России, 8) ежегодные доклады в центральном Институте о ходе работ в Отделении и о результатах международной научной работы в этой области.
Штаты, необходимые для произведения этой работы, были бы следующими:
-
1. Директор, оглавляющий учреждение как таковое и руководящий всеми занятиями в Отделении.
-
2. Три учёных секретаря по трём специальностям: один по античному искусству, один по средневековому искусству, один по новому искусству.
-
3. Три научных сотрудника для особых поручений и специального использования.
-
4. Библиотекарь.
-
5. Два помощника библиотекаря.
-
6. Два сторожа при библиотеке.
-
7. Делопроизводитель.
-
8. Помощник делопроизводителя.
-
9. Три переписчика по канцелярии и для переписывания научных работ»37.
Советом Института было высказано принципиальное согласие с выступлением О.Ф. Валь-дгауера и принято решение возбудить соответствующее ходатайство, а также создать комиссию по разработке соответствующего положения38. 23 февраля 1920 года правление Института слушало вопрос об образовании комиссии по выра- ботке проекта отделения в Риме и о включении в её состав кроме членов правления (В.П. Зубов, Н.Э. Радлов, С.М. Ляпунов) искусствоведов сотрудников Института О.Ф. Вальдгауера, С.Н. Жарновского и С.С. Лукьянова39. На этом можно считать завершенным первый этап подготовки к реализации «прекрасной мечты Института». Вскоре обнадеживающие новости пришли и из Москвы.