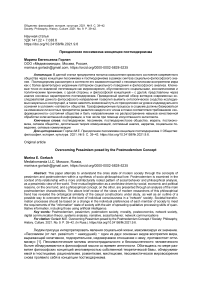Преодоление пессимизма концепции постмодернизма
Автор: Горлач Марина Евгеньевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 9, 2021 года.
Бесплатный доступ
В данной статье предпринята попытка осмысления кризисного состояния современного общества через концепции пессимизма и постмодернизма в рамках синтеза социально-философского знания. Постмодернизм рассмотрен в контексте его взаимоотношений с пессимистическим восприятием мира как с более архитектурно укоренным паттерном социального поведения и философского анализа. Ключевые точки их взаимной легитимации как мировоззрения, обусловленного социальными, экономическими и политическими причинами, с одной стороны, и философской концепцией - с другой, представлены через анализ основных характеристик постмодернизма. Приведенный краткий обзор взглядов современных исследователей данного философского направления позволил выявить онтологическое сходство исследуемых казуальных конструкций, а также наметить возможный путь их преодоления на уровне индивидуального сознания в условиях «сетевого» общества. Трасформационные процессы в социуме должны базироваться на изменении личностных приоритетов развития каждого его члена в плане соответствия требованиям «информационного» состояния общества и быть направленными на распространение навыков качественной обработки количественной информации, в том числе при помощи искусственного интеллекта.
Постмодернизм, пессимизм, постмодернистское общество, мораль, постэкономика, сетевое общество, дигитальная теория коммуникаций, системный анализ, нарратив, социальное поведение, сетевые коммуникации
Короткий адрес: https://sciup.org/149138718
IDR: 149138718 | УДК: 141.22+7.038.6 | DOI: 10.24158/fik.2021.9.6
Текст научной статьи Преодоление пессимизма концепции постмодернизма
,
,
Людям присуще интерпретировать явления социальной жизни, максимизируя их значение. «Пессимизм (от лат. pessimum - наихудший) - один из двух основных видов восприятия мира, выражающий негативное, подозрительное, недоверчивое отношение к нему, противостоит оптимизму» [1]. Пессимистические мотивы многострадальности и бессмысленности человеческого бытия обнаруживаются в философской мысли со времен античности. Обогащаясь по мере развития философских концепций многомерностью собственной теоретической базы, обнаруживаемой в гностицизме, рационализме, романтизме, мистицизме, пессимистическое мировоззрение снова проявило себя в концепции постмодернизма.
Термину «постмодернизм» исторически придается культурологический контекст. Ф. Джеймисон показал причины и логику утверждения в сфере культуры основной черты постмодернизма – пастиша [2]. По сути, это признак поворота цивилизационного сознания к прошлому с желанием ассимилировать формы былого образа жизни, «осовременить» их. Однако это лишь встреча цивилизационной реальности настоящего со своим историческим прошлым, но отнюдь не их органическое слияние. Для настоящего прошлое становится полезным в качестве богатой совокупности образов и смыслов, которые можно использовать, чтобы облагородить настоящее или скрыть его цивилизационную пустоту.
В философском пласте знаковым событием стала «деконструкция» Ж. Деррида, предпринятая им в стремлении обновить современное состояние понимания философской мысли. Оно было поддержано такими мыслителями, как Ж. Батай, Ж. Бодрийяр, М. Фуко и др. Выросший из «кризиса европейской культуры» [3] постмодернизм стало принято считать социально-философским ответом на предельные вопросы человеческого бытия, на которые не смог ответить позитивизм.
Границы термина «постмодернизм» неизбежно размываются продолжающими прирастать рядами как взаимодополняющих, так и противоречащих друг другу концепций. Обрести устойчивость концептуального единства можно посредством схожести в них описания отличий настоящего (present) цивилизованного мира от его недавнего прошлого. Для общества модерна была характерна вера в разум, прогресс, рациональность, совершенную природу индивида и стремление к абсолютному знанию, доставшиеся ей в наследство от гуманистов эпохи Просвещения. Далее, после социальных потрясений XX века, – разочарование в идее абсолютного знания, иррациональность, трактуемая как выход за пределы рационального в стремлении преодолеть его границы, утрата иллюзий по отношению к созданной цивилизацией социальной структуре и институтам, итогам прогресса, к самой его идее, к природе человека. Как отметил А.А. Кусаинов, произошедший поворот к постмодернизму, отказ от модернистского способа мышления продемонстрировали, что общество переживает падение любых авторитетов: «люди больше не стремятся идентифицировать себя с государством, партией, определенными институтами» [4, с. 102].
У классиков этот кризис идентификации выразился в актуализации споров о вопросах морали.
Ю. Хабермас в отношении теории морали заявляет: «Я отстаиваю разумное содержание морали, предполагающей равное уважение к каждому и всеобщую солидарную ответственность друг за друга. Постмодернистское недоверие к беспощадно ассимилирующему и унифицирующему все и вся универсализму происходит от непонимания смысла такого рода морали, в силу чего в пылу спора упускается из виду та структура отношений инаковости и различия, которую как раз четко высвечивает правильно понимаемый универсализм» [5, с. 47].
Можно заключить, что Ю. Хабермас придерживается той же точки зрения, что и Ж.-П. Сартр в книге 1946 г. «Экзистенциализм – это гуманизм». Экзистенциализм понимается им, как «учение, которое делает возможной человеческую жизнь и которое, кроме того, утверждает, что всякая истина и всякое действие предполагают некоторую среду и человеческую субъективность» [6, с. 319]. В обоих случаях постулируется единственно возможное человеческое выживание как основанное на гуманистическом, а потому антропном принципе существования. Собственно, это убеждение создало цивилизацию, оно же и завело ее в тупик. Оказавшись перед лицом глобализма, человечество было вынуждено критически пересмотреть значимость предыдущих культурных достижений в поисках оснований для солидарности.
Пример такого пути в рамках концепции постмодернистского общества предлагается в работах современного российского теоретика постиндустриализма В.Л. Иноземцева. Именно его позиция интересна тем, что социологическая доктрина постмодернизма рассматривается исследователем в качестве некоторой альтернативы теории постиндустриального общества. По мнению ученого, самосознание современности как новой наступающей эпохи предстает в форме социальной философии и, отчасти, социологической теории постэкономической общественной формации. Ее основой является переориентация интересов человека на задачи развития собственной личности, поскольку «не мотивированная утилитарными потребностями деятельность способна изменить социальную структуру в гораздо большей мере, чем десятилетия революционных потрясений» [7, с. 162]. Постэкономическое общество осознается ученым как результат реального исторического синтеза – завершающего этапа диалектической триады, образуемой основными стадиями развития человеческой цивилизации. « Покидая экономическую эпоху, человечество вступает в эру абсолютной субъективности, где действия каждой отдельной личности обусловлены ее внутренними потребностями, продиктованными законами морали, имманентными каждому человеку новой эпохи» [8, с. 172–173].
Вопросов морали мы уже коснулись, отметим некоторые ключевые для предмета нашего рассмотрения современные особенности теории постэкономической общественной формации.
Так, Д.В. Иванов, сформулировавший социально-философский концепт «глэм-капитализм» [9], полагает, что трансформация общества, включая экономику, приобрела иной характер, нежели предсказывали теоретики постиндустриализма. Существенным отличием стала инкорпорирован-ность производства знаний в процесс капиталистического производства. При этом система вещей, труд предстают в качестве «знаков реального», кодирующих императив социальной интеграции в ситуации «утраты» самой социальной реальности [10].
За этими характеристиками Д.В. Иванов видит процесс виртуализации общества - радикальную трансформацию способа существования Западной цивилизации, стимулировать которую может только экономический империализм. Следствием таких процессов станет установление виртуальной империи как новой формы политической интеграции и мобилизации. В глобальном масштабе «…подобно римскому гражданину времен Каpaкаллы гражданин сетевой эпохи оказывается во все меньшей степени определен своим участием в осуществлении суверенитета и во все большей степени – тем, что он может развить ту или иную деятельность внутри таких рамок, где все процедуры подчиняются ясным и предсказуемым правилам... Неважно, будут ли нормы устанавливаться частным предприятием или же чиновником администрации. Норма уже не будет проявлением суверенитета, она станет лишь фактором, снижающим степень неопределенности» [11].
Кризис на уровне личностной и социальной идентификации, атрибутируемый субъекту на бытийном уровне, закрепляется и на уровне научного познания ускоряющейся сменой цитирующих друг друга концептуальных позиций. Эта незавершенность общего проекта указывает на имманентное стремление к описанию надвигающегося будущего сейчас. По мнению Ю. Хабермаса, это «описание сейчас» есть не что иное, как модерн в состоянии становления – переходном состоянии к информационному обществу и представляет собой попытку описать хаотическое целое. «Скриншот хаоса» становится транслируемым паттерном массовой коммуникации – так хаос обретает социальность и начинает менять характер взаимоотношений в обществе. Проследить это можно на примере размывания содержания понятия социального статуса, выражающегося на бытийном уровне в том числе как проблема возрастного авторитета - масштабный источник пессимизма для передового отряда человеческой популяции. Возможно, этим обусловлена современная массовая популярность когнитивной психологии – продукта воздействия достижений инженерной мысли и других смежных наук на психологию. Существенный перелом в поведенческой культуре и ее коммуникационном обеспечении является свидетельством как минимум зигзагообразного развития общества.
Таким образом, методом скриншота сейчас получаем новое социальное измерение, которое в соответствии с логикой подхода дигитальной теории коммуникации должно подготавливать естественный переход к точке бифуркации в эволюции массового сознания. В рамках системного подхода имеется достаточное для нашего случая определение, а именно: «Система – это множество соотносящихся друг с другом объектов или множество объектов, объединенных некоторым отношением» [12, с. 108], которое означает зависимость коррелятивного типа, когда изменение в одном ведет к изменениям в других. Системными изменениями сегодняшнего дня являются: сетевое общество на основе программного продукта и снятие языкового барьера. Вектор движения изменений - от текста к полноценному мультимедийному присутствию, и не просто на другой стороне планеты, например, а и в другом культурном пространстве – полное преодоление культурных барьеров. Это произведет в самом человеке качественные эвристические перемены, препятствием для которых служат только биологические ограничения. Спецификой же настоящего момента является «удержание общества в цивилизационном пространстве симулякров; вместе с тем это означает формирование потребности в новой социальной психологии, которая позволяет уживаться в мире симулякров, испытывая в них постоянную потребность. Такова ключевая задача современной массовой культуры – наркотического духовного мира современной цивилизации» [13, с. 33]. К этому же классу явлений относится спиритуализация общественного сознания дискурсом «нью эйдж».
Из-за возрастания способов влияния на Другого мы, как социальные субъекты, утрачиваем способность (желание) адаптироваться к той интерсубъективности (А. Шюц), которую несет нам Другой. Отсюда и ощущение культурного одиночества, экзистенциализм с его уникальным и иррациональным человеком как ключевой проблемой философии XX века.
Утрата значения действия как социального компенсируется особым поведением – уходом в микросоциальные структуры. Все наработки социальных взаимодействий переносятся в сетевые коммуникации, где и создаются новые разнообразные социальные контакты горизонтального порядка. И хотя эти новые социальные взаимодействия ввиду тождественности (как минимум биологической) действующего субъекта основаны, как уже было показано выше, на хаотическом
«описании сейчас», они наделены принципиально новой возможностью фиксировать и распространять личный нарратив, формируя и направляя общественные дискурсы. Таким образом, преодоление пессимизма постмодерна осуществимо в результате изменения, которое человек проводит сам в себе, пытаясь обнаружить пространство собственной реализации. Удержание этого пространства по-прежнему требует экономической сверки – реализации возможности подтвердить свою значимость экономическим способом, что в современных российских условиях означает возвращение в среду «90-х», только в состоянии закредитованности и поделенности рынков – на руинах переходного этапа.
Тем не менее в социально-философском плане это ведет нас к формированию нового типа общества (сетевого, информационного и т.п.), которому все еще противодействует социальный институт государственности, препятствующий политическими методами и средствами замедлению эволюционных процессов социально-политической жизни ради сохранения властных полномочий на изолированных территориях.
Анализ концепции пессимизма на социальном уровне показывает, что мировоззренческая позиция общественного сознания определяется не состоянием общества, а отношением общества . В том числе к тому, что ставит ему ограничения. Основой для изменения общественного отношения выступает необходимость переориентации интересов человека на путь личного развития, дополнительно актуализированная обстоятельствами «информационного» состояния общества, в котором ключевым ресурсом становится способность качественной обработки количественной информации. Решение этой задачи в ее техническом аспекте возлагается на машинное обучение (в перспективе – на искусственный интеллект). Вклад социальной науки в способ происходящих изменений заключается в необходимости интериоризации с уровня научного познания на уровень социальной практики «новой» морали в рамках структур отношений «горизонтального» универсализма, условия для которого в современных условиях обеспечиваются развитием сетевой информационно-коммуникационной структуры общественных отношений.
Список литературы Преодоление пессимизма концепции постмодернизма
- Философия : энциклопедический словарь / под ред. А.А. Ивина. М., 2004. 1072 с.
- Jameson F. The Cultural Turn. Selected Writings on the Postmodern 1983-1998. L., 1998. 206 p.
- Pannwitz R. Die Krisis der Europaeischen Kultur. Nürenberg, 1917. 280 s.
- Кусаинов А.А. Французская «новая философия» и культура постмодерна. Волгоград, 2003. 161 с.
- Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. СПб., 2001. 415 с.
- Сартр Ж.-П. Экзистенциализм это гуманизм // Сумерки богов. М., 1989. С. 319-344.
- Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества: постиндустриальные теории и постэкономические тенденции в современном мире. М., 1998. 639 с.
- Там же. С. 172-173.
- Иванов Д.В. Глэм-капитализм. Мир брендов, трендов и трэша. СПб., 2015. 138 с.
- Иванов Д.В. Постиндустриализм и виртуализация экономики // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Т. 1, № 1. С. 81-90.
- Guehenno JM Das Ende der Demokratie. Düsseldorf, 1998. 180 s.
- Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. М., 1978. 272 с.
- Скворцов Л.В. Феномен постмодернизма как парадокс истины бытия // Человек: образ и сущность. 2006. № 1 (17). С. 10-42.