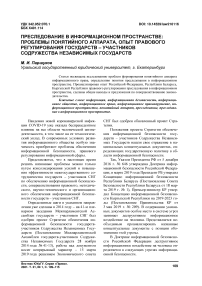Преследование в информационном пространстве: проблемы понятийного аппарата, опыт правового регулирования государств - участников Содружества Независимых Государств
Автор: Паршуков Михаил Игоревич
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Проблемы и вопросы теории государства и права, конституционного права
Статья в выпуске: 1 т.21, 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию проблем формирования понятийного аппарата информационного права, определению понятия преследования в информационном пространстве. Проанализирован опыт Российской Федерации, Республики Беларусь, Кыргызской Республики правового регулирования преследования в информационном пространстве, сделаны общие выводы и предложения по совершенствованию законодательства.
Информация, информационная безопасность, информационное общество, информационное право, информационное правонарушение, информационное пространство, понятийный аппарат, преследование, преследование в информационном пространстве
Короткий адрес: https://sciup.org/147231560
IDR: 147231560 | УДК: 342.952:070.1 | DOI: 10.14529/law210116
Текст научной статьи Преследование в информационном пространстве: проблемы понятийного аппарата, опыт правового регулирования государств - участников Содружества Независимых Государств
Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 уже оказала беспрецедентное влияние на все области человеческой жизнедеятельности, в том числе на ее технологический уклад. В современных условиях развития информационного общества особую значимость приобретают проблемы обеспечения информационной безопасности, правового регулирования информационной сферы.
Представляется, что в настоящее время решить названные проблемы можно только путем консолидирования усилий и повышения эффективности межгосударственного сотрудничества государств – участников СНГ по обеспечению информационной безопасности, совершенствования правового, методического, научно-технического и организационного обеспечения информационной безопасности государств – участников СНГ.
Определенные шаги в указанном направлении уже сделаны в 2014 году – на 41-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ был одобрен проект Стратегии обеспечения информационной безопасности государств-участников Содружества Независимых Государств (Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств 28 ноября 2014 года № 41-13), работа над документом носит непрерывный характер – 15 марта 2019 года решением Экономического совета
СНГ был одобрен обновленный проект Стратегии.
Положения проекта Стратегии обеспечения информационной безопасности государств – участников Содружества Независимых Государств нашли свое отражение в национальных концептуальных документах, определяющих государственную политику в области информационной безопасности.
Так, Указом Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 утверждена Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, в марте 2019 года Президент РБ утвердил Концепцию информационной безопасности Республики Беларусь (Постановление Совета Безопасности Республики Беларусь от 18 марта 2019 г. № 1), Премьер-министр КР утвердил Концепцию информационной безопасности Кыргызской Республики на 2019-2023 годы (Постановление Правительства КР от 3 мая 2019 г. № 209). В содержании указанных документов особое место в системе угроз занимает деструктивное информационное воздействие на человека. Представляется необходимым проанализировать названные концептуальные документы с позиции обозначения этой угрозы.
В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации деструктивное информационное воздействие на человека определяется в следующих угрозах информационной безопасности.
-
1. Расширение масштабов использования специальными службами отдельных государств средств оказания информационнопсихологического воздействия, направленного на дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации, с вовлечением в эту деятельность религиозных, этнических, правозащитных и иных организаций, отдельных групп граждан с широким использованием возможностей информационных технологий.
-
2. Наращивание информационного воздействия на население России, в первую очередь на молодежь, в целях размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
-
3. Использование террористическими и экстремистскими организациями механизмов информационного воздействия на индивидуальное, групповое и общественное сознание в целях нагнетания межнациональной и социальной напряженности, разжигания этнической и религиозной ненависти либо вражды, пропаганды экстремистской идеологии, а также привлечения к террористической деятельности новых сторонников.
-
4. Увеличение числа преступлений, связанных с нарушением конституционных прав и свобод человека и гражданина, в том числе в части, касающейся неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, при обработке персональных данных с использованием информационных технологий.
Несколько иным, но аналогичным по смыслу образом фиксируются исследуемые угрозы в Концепции информационной безопасности Республики Беларусь.
-
1. Совершенствование механизмов деструктивного информационно-психологического воздействия на личность с помощью информационных технологий.
-
2. Вовлечение людей через информационное пространство в экстремистскую и террористическую деятельность, разжигание межнациональной и межконфессиональной вражды, формирование радикального и протестного потенциала.
-
3. Существенное изменение в результате информационных воздействий самооценки, социальных связей человека в обществе, стиля мышления, способа общения, восприятия действительности.
-
4. Активное распространение в информационном пространстве фальсифицированной, недостоверной и запрещенной информации.
Снижение критического отношения потребителей информации к фейковым сообщениям новостных ресурсов, в социальных сетях и на других онлайн-платформах создает предпосылки преднамеренного использования дезинформации для дестабилизации общественного сознания в политических, социальноопасных, иных подобных целях.
Незаконное и необоснованное вмешательство в частную жизнь граждан, похищение персональных данных, избыточное профилирование сужают личное пространство человека и нарушают его приватность, при этом раскрытие личной информации стало неотъемлемым атрибутом корыстных преступлений и преступлений против личности.
Концепция информационной безопасности Кыргызской Республики к ключевым проблемам состояния информационной безопасности относит незащищенность, неконтро-лируемость и недостаточность правового и технического регулирования информационного пространства; распространение киберпреступности; отсутствие эффективного противодействия трансграничной информационной преступности в современных условиях, сложность контроля за деятельностью интернет-ресурсов; незащищенность индивидуального и массового сознания граждан от вредного и опасного контента в ходе информационного взаимодействия субъектов, манипуляцию мнением пользователей сети Интернет представителями террористических и экстремистских организаций.
При этом к внутренним источникам угроз относятся несовершенство законодательства по своевременному ограничению доступа к материалам деструктивного характера в сети Интернет, отсутствие законодательной базы по вопросам регулирования взаимоотношений в сети Интернет, несовершенство правоприменительной практики в отношении распространения противоправной информации.
Одной из форм деструктивного информационного воздействия, связанного с названными угрозами информационной безопасности и вызывающего сегодня наибольшие проблемы в правовом определении, является преследование в информационном пространстве.
Если категория «информационное пространство» в исследуемых концептуальных документах и законодательстве государств -участников Содружества Независимых Государств определяется примерно одинаково - как сфера деятельности, связанная с формированием, созданием, преобразованием, передачей, использованием, хранением информации, оказывающая воздействие на индивидуальное и общественное сознание, информационную инфраструктуру и собственно информацию, то в случае с понятием преследования такой определенности нет.
Общеизвестными синонимами слова «преследование» являются гонение, гоньба, донимание, досаждение, мордование, ограничение в правах, погоня, прессинг, притеснение, стеснение, терроризирование, травля, третирование, угнетение и др. Все они носят негативный, деструктивный характер. В англоязычных странах с 90-х гг. прошлого века термин «преследование» стал использоваться для описания социального поведения, которое включает в себя приставание и домогательство, настойчивое сопровождение, намеренное подкарауливание [1, с. 178].
Очевидно, что преследование в информационной сфере является информационным правонарушением, то есть общественно опасным, противоправным и виновным деянием (действием и бездействием), совершаемым в сфере информации либо в иных областях человеческой деятельности с использованием информационных систем, направленное на государственный и общественный порядок, права и свободы граждан, собственность и порядок управления [4, с. 315].
Можно выделить следующие частные признаки преследования в информационной сфере как информационного правонарушения.
-
1. Общественная опасность, характеризующаяся количеством и качеством вреда, причиненного интересам личности, что позволяет отделять деяния по степени опасности друг от друга. В отдельных случаях преследование может быть административным правонарушением, в других – информационным преступлением.
-
2. Противоправность, нарушение запрета, установленного в действующем законода-
- тельстве.
-
3. Виновность деяния, которая характеризует психическое отношение правонарушителя к своим действиям и следующим за ними последствиям. Представляется, что преследование в информационном пространстве может совершаться как умышленно, так и по неосторожности.
-
4. Особый объект посягательства – информация. Речь идет о незаконном получении, распространении, использовании информации. К формам преследования можно отнести: угрозы, ложные обвинения, попытки собрать информацию о жертве, отслеживание онлайн-активности жертвы, подстрекательство посторонних людей, ложную виктимизацию, атаки на данные, электронные реквизиты, гаджеты, заказ вещей и сервисов, организацию встречи, публикацию клеветнических и оскорбительных высказываний и др. [2].
-
5. Специфические условия совершения преступления – информационная среда, которую мы рассматриваем как совокупность наиболее оптимальных благоприятных организационно-правовых, технических и технологических условий реализации конкретных (ситуационных) информационных потребностей субъектов информационной сферы. К элементам информационной среды можно отнести информационно-телекоммуникационные сети, социальные сети, мессенджеры, сайты в сети Интернет, интернет-форумы и др.
-
6. Цель и направленность противоправного деяния – получение контроля над жертвой, манипулирование, принуждение к соверше-
- нию каких-либо действий, унижение, причинение дискомфорта, психических страданий, введение в состояние стресса и др.
В результате преследования в информационном пространстве человеку может быть причинен моральный вред (например, вред психическому здоровью) или материальный ущерб, связанный с устранением последствий незаконных действий (например, оплата услуг IT-специалистов, переезд, покупка лечебных препаратов от депрессии и стресса, услуги психолога и т.д.).
Говоря о преследовании в информационном пространстве, следует заметить, что состав данного правонарушения не всегда находит отражение в текстах нормативных актов. Более того, преследование часто состоит из последовательности информационных действий, каждое из которых в отдельности не может быть признано противоправным деянием, но в целом нарушает права других лиц. Устанавливая противоправность деяний, следует в том числе обращаться к фундаментальным нормам международного права – ст. 19, 29, 30 Всеобщей декларации прав человека, ст. 9, 11 Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека, запрещающим осуществление прав и свобод человека и гражданина в информационной сфере с нарушением прав и свобод других лиц.
На основе выделенных признаковю, представляется возможным определить преследование в информационном пространстве как виновное противоправное общественно опасное деяние, совершаемое с использованием средств вычислительной техники, информационных систем, информационных технологий, выражающееся в нежелательном, систематическом и агрессивном информационном взаимодействии с другим лицом в целях причинения ему психических и нравственных страданий, материального ущерба, принуждения его к совершению каких-либо действий.
Данное определение носит авторский характер. Следует заметить, что в условиях развития информационного общества особую значимость приобретает формирование понятийного аппарата информационного права, адекватного складывающимся реалиям. Этою, в свою очередью, вызывает потребность строго научного анализа логико-языковых форм нормативного регулирования информационных отношений. Такой анализ необходим при исследовании прежде всего информационного законодательства. В контексте терминологического оформления нормативного массива правовых актов многими исследователями отмечаются понятийная неопределенность, несбалансированность терминов между базовыми и отраслевыми законами, а также недостаточная теоретическая проработанность и несовершенство юридической техники оформления текстов нормативно-правовых актов. К сожалению, указанные проблемы в полной мере относятся к определению понятия преследования в информационном пространстве, которое также называют как ин-тернет-моббинг, киберсталкинг, кибербуллинг, троллинг, хейтинг, флейминг, грифинг, секстинг и т.д. [3]. Представляется, что в законодательном тексте в идеале каждый юридический термин должен выполнять строго определенную функцию, направленную на наиболее точное выражение нормативного смысла. Эффективность информационного законодательства во многом определяется качеством юридической техники. От языковой точности и ясности содержания правовой нормы зависит качество правовых решений, принимаемых субъектами информационных отношений. Наибольшую сложность у них вызывают нормативные положения, имеющие терминологически проблемный характер, обусловленный несовершенством правового языка.
Про анализировав опыт правового регулирования преследования в информационном пространстве, отметим две складывающиеся тенденции.
-
1. Осмысление необходимости принятия специального закона.
-
2. Модернизация существующей нормативной правовой базы с учетом специфики развития информационного общества, в том числе: 1) предусмотреть за домогательство в сети - 6 лет тюрьмы; 2) ввести уголовную ответственность за кибербуллинг; 3) принят Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 530-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 4) совершенствование правоприменительной практики: вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении власти.
Молодежный парламент при Государственной Думе РФ предложил внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части установления ответственности за травлю в общественных местах и социальных сетях. В нижней палате парламента предложение поддержали, но соответствующий проект закона так и не был внесен на рассмотрение, потому что в юридическом сообществе проблему видят не в отсутствии необходимых норм действующего законодательства, а в несовершенстве правоприменительной практики.
В декабре 2019 года в Государственной Думе РФ был проведен круглый стол по обсуждению проблем киберпреследования, в котором приняли участие депутаты Госдумы, члены комитетов нижней палаты парламента по информационной политике, а также по безопасности и борьбе с коррупцией, представители госорганов, уполномоченного по правам человека, общественных организаций.
В итоговой резолюции круглого стола предлагалось ужесточить уголовную ответственность за распространение в интернете угроз жизни и здоровью, изменить уже существующие ст. 63 (Обстоятельства, отягчающие наказание) и ст. 119 (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) УК РФ.
Обсуждение указанной проблемы вышло на новый уровень после анализа опыта дистанционного обучения детей посредством информационных технологий сети Интернет.
Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству И. Рукавишникова считает необходимым обсуждать ужесточение наказания за оскорбления и угрозы в Интернете в первую очередь в отношении детей, а не вводить отдельную статью в УК РФ за так называемый кибербуллинг (травлю в сети). «В широкое речевое понятие «травля в сети» [кибербуллинг], с точки зрения права, входит целый комплекс противоправных действий – оскорбление, шантаж, клевета, угроза. За каждое из этих действий в российском законодательстве уже предусмотрена административная или уголовная ответственность. Таким образом, вводить какую-либо отдельную статью за «травлю в сети» в действующее российское законодательство нецелесообразно. Речь идет о квалифицированном подходе к возможности ужесточения ответственности за подобные действия, прежде всего в киберпространстве и в отношении несовершеннолетних».
Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 530-ФЗ, еще называемый законом о соцсетях, сократит случаи преследования в сети Интернет благодаря широкому перечню критериев, по которым социальная сеть должна определять и блокировать противоправный контент, в том числе оскорбляющий человеческое достоинство и посягающий на общественную нравственность.
Анализ действующего законодательства государств – участников Содружества Независимых Государств показал наличие схожих подходов в установлении ответственности за правонарушения, которые могут быть отнесены к преследованию в информационном пространстве.
Уголовные кодексы Российской Федерации, Республики Беларусь, Кыргызской Республики устанавливают следующие составы преступлений, содержание которых связано с преследованием в информационном пространстве: доведение до самоубийства (соответственно УК РФ, УК РБ, УК КР) – ст. 110, ст. 145, ст. 136; склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства – ст. 110.1, ст. 146, ст. 137; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – ст.111*, ст. 147, ст. 138; умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести – ст. 112, ст. 149, ст. 139; умышленное причинение легкого вреда здоровью – ст. 115, ст. 153, нет; угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью – ст. 119, ст. 186, ст. 145; клевета – ст. 128.1, ст. 188, нет; развратные действия – нет, ст. 169, ст. 165; понуждение к действиям сексуального характера – ст.133**, ст. 170, ст. 163; нарушение неприкосновенности частной жизни – ст. 137, ст. 179, ст. 186; вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления – ст. 150, ст. 172, ст. 180; Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий – ст. 151***, ст. 173, ст. 181; вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего – ст. 151.2, нет, нет; вымогательство – ст. 163, ст. 208, ст. 203; создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан – ст. 239, нет, нет; использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов – ст. 242.2, ст. 343.1, ст. 168; возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства – ст. 282, нет, ст. 313; вовлечение в занятие проституцией – нет, нет, ст. 166; принуждение – нет, ст. 185, нет; оскорбление – нет, ст. 189, нет.
-
* например, прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией.
-
* * способами воздействия на потерпевшее лицо с целью получения от него вынужденного согласия на совершение указанных действий являются шантаж, угроза уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо использование материальной или иной зависимости потерпевшего лица.
-
* ** действия взрослого лица могут выражаться как в форме обещаний, обмана и угроз, так и в форме предложения совершить преступление или антиобщественные действия, разжигания чувства зависти, мести и иных действий.
Кодексы об административных правонарушениях Российской Федерации, Республики Беларусь, Кыргызской Республики устанавливают следующие составы административных правонарушений, содержание которых связано с преследованием в информационном пространстве: вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ (соответственно КоАП РФ, КоАП РБ, КоАП КР) – ст. 6.10, ст. 17.4, нет; нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных – ст. 13.11, ст. 22.13, нет; мелкое хулиганство – ст.20.1, ст. 17.1, нет; клевета – нет, ст. 9.2, нет; оскорбление – нет, ст. 9.3, нет.
Обобщая опыт Российской Федерации, Республики Беларусь, Кыргызской Республики правового регулирования преследования в информационном пространстве, считаем возможным сделать следующие выводы и предложения.
-
1. В исследованных концептуальных документах в области информационной безопасности преследование в информационной пространстве отсутствует среди угроз интересам личности в информационной сфере.
-
2. В настоящее время наукой информационного, гражданского, уголовного и административного права не выработано согласованных подходов к определению понятия «преследование в информационном пространстве».
-
3. В системе законодательства Российской Федерации, Республики Беларусь, Кыргызской Республики отсутствуют нормативные акты, регулирующие общественные от
-
4. Проанализированные концептуальные документы нуждаются в корректировке в части дополнения перечня угроз интересам личности в информационной сфере, нормами действующего законодательства необходимо определить понятие преследования в информационном пространстве, в уголовный закон и кодекс об административных правонарушениях следует включить специальные составы правонарушений, устанавливающие ответственность за преследование в информационном пространстве.
ношения, связанные с преследованием в информационном пространстве, имеющиеся составы уголовных преступлений и административных правонарушений не соответствуют реалиям информационного общества.
Список литературы Преследование в информационном пространстве: проблемы понятийного аппарата, опыт правового регулирования государств - участников Содружества Независимых Государств
- Барышева, К. А. Преследование как новый вид уголовно наказуемого деяния / К. А. Барышева // Пробелы в российском законодательстве. - 2016. - № 8. - С. 178-183.
- Киберсталкинг. Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Киберсталкинг. 14/01/21/.
- Введение в кибербуллинг. URL: https://pikabu.ru/story/chast_1_vvedenie_v_kiberbulling_6552332. 14/01/21/.
- Кузнецов, П. У. Информационное право: учебник / П. У. Кузнецов. - М.: Юстиция, 2017. - 336 с.