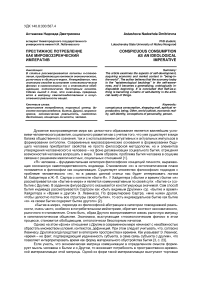Престижное потребление как мировоззренческий императив
Автор: Асташова Н.Д.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются аспекты я-становления, приобретающие контекст экономического, рыночного в «бытии-в-мире». Утверждается, что экономика сегодня выступает «гносеологическим фоном» в самоосознании «я» и становится обобщающим, онтологически бесспорным началом. Сделан вывод о том, что я-как-вещь превращается в матрицу самоотождествления в искусственной реальности вещей.
Престижное потребление, торговый центр, духовное воспроизведение, бытие, другой, мировоззрение, экономическая реальность, самоотождествление, концепции личности, человек
Короткий адрес: https://sciup.org/14940903
IDR: 14940903 | УДК: 140.8:330.567.4
Текст научной статьи Престижное потребление как мировоззренческий императив
Духовное воспроизведение мира как целостного образования является важнейшим условием человеческого развития, социального развития как с учетом того, что уже существует в виде багажа общественного сознания, так и с использованием ситуативных и актуальных импульсов в формировании онтологии. Современные мировоззренческие основания в формировании будущего человека приобретают свойства не просто философской методологии, но и элементов утверждения человеческого в человеке – на фоне дегуманизации социального бытия, отрицания возможностей человека вопрошать о мире. Таким образом, проблема бытия человека в социуме связана с решением межличностных, социальных отношений [1].
«Я» человека – фундаментальная категория философских концепций личности, выражающая осознанную самотождественность индивида. Становление «я» в онтогенетическом плане понимается в философии как социализация. Существует множество философских подходов к проблеме человеческого «я», но в рамках данной статьи нас будет интересовать логика М. Хайдеггера и Ж.-П. Сартра о контексте «быти-Я». У Хайдеггера («Бытие и время») бытие «я» рассматривается как «бытие-в-мире» и является коммуникативным по своей сути: «бытие-с» (событие с Другим). В заданном фигура Другого оказывается конституирующе значимой. Сам способ бытия индивида рассматривается Сартром как «быть видимым Другими» (ср. «Бытие и время» Хайдеггера и «Время и другой» Э. Левинаса). По формулировке Сартра, «мне нужен другой, чтобы целостно постичь все структуры своего бытия», то есть индивидуальное бытие как бытие «я» «в своем бытии содержит бытие другого» [2].
«Бытие-в-мире», переходя из философской абстракции в категории повседневной реальности, очень часто, особенно в потребительском мейнстриме, обретает контекст экономического, рыночного я-становления. Стало быть, образ Другого воспринимается сквозь рыночную матрицу в капиталистическом обществе. Экономика, выступающая «гносеологическим фоном» в этом процессе, становится обобщающим, онтологически бесспорным началом.
Однако на этом «фоне» отношения с Другим в современном мире начинают с неизбежностью обрастать множеством условий, контекстов, дефиниций. При этом следует учитывать, что, согласно Левинасу, Другой всегда предстает в категориях пространства и времени. Как указывает Э. Левинас, «время – не факт, подтверждающий уединенность субъекта, а сама связь субъекта с другим», что позволяет интерпретировать время как форму материального обустройства бытия [3, с. 23].
Если учесть, что экономическая матрица коммуникации в определенном смысле формирует мысль человека о Бытии и о Другом, то возникает потребность в пространственно-временной материализации этой матрицы. Одной из форм такой материализации выступают торговые центры. Таким образом, мы рассматриваем онтологически значимые точки пространственно-временной концентрации экономической реальности не просто как иллюстрацию этой онтологии, но и как формат, место «встречи с Другим» в определенных условиях.
Конечно же, как и в любой другой пространственно-временной парадигме, соотношения «я» и Другого обретают множество форм и оттенков. Но существенным условием, влияющим на прочность экономической онтологии, является одушевление заведомо неодушевленных вещей, превращение Вещи в аналог Другого. Так неодушевленный предмет вступает в контакт с человеком. Парадокс феномена торгового центра заключается в том, что через взаимодействие с объектом неодушевленного мира человеческое «я» начинает себя осознавать: мы никогда не остаемся одни, мы окружены вещами, связи с которыми поддерживаем посредством зрения, соприкосновения, сопереживания. Однако в акте сопереживания и осознания себя через Другого «я» сохраняет свою самость. По Протагору «человек есть мера всех вещей», в торговом центре, наоборот, вещи становятся мерилом человека в процессе осознания его я-самости.
Как пишет Левинас, «перед лицом Другого “я” бесконечно ответственно. Другое, возбудившее в сознании это этическое движение, внесшее разлад в чистую совесть совпадения себя собою, влечет за собою некую несоразмерную интенциональности прибавку» [4, с. 171].
Обустроенность в мире, занятость вещами, привязанность к ним, стремление распоряжаться ими – все это сводится к заботе об акте существования: «Мы открываем кран в ванной, и вместе с ним всю проблему онтологии» [5, с. 56]. Всякое пользование вещью есть некоторый способ Бытия.
В современной реальности вещественная сторона жизни превратилась для человека в самодовлеющую, доминантную ценность. Ведь, собственно, от этого возникает его, соответствующая этой онтологии мысль о самом себе. «Я» становится не просто частью материального мира, но и условием его очеловечения. Марксово «отчуждение» как констатация противоречия человеческого и экономического в обществе сегодня оборачивается потребительским «отождествлением», или «воодушевлением», которые на поверку оказываются все тем же отчуждением, но сглаженным, не столь остро антигуманным, упакованным в яркую коммуникативную обертку.
В «погоне за вещами» обладание вещью становится синонимом самой жизни, особенно ярко это проявляется, когда престижность вещи начинает становиться синонимом престижности существования самого человека.
Рефлектировать на этот счет общество пытается уже достаточно давно. Однако потребительский нонконформизм наталкивается на множественные социальные «защитные сооружения», надежно оберегающие экономическую реальность от какой бы то ни было «альтернативной» идеологии, выражаясь проще, гуманистической рефлексии. Вот почему обладание определенной вещью рассматривается как способ самоидентификации «я» и является примером всеобщего подражания. Реклама задает ориентиры, следуя которым индивид демонстрирует свою принадлежность окружению, от которого, как он считает, зависит его жизнь. По символике вещи легко распознать, на какой ступени общественной лестницы стоит обладающий ей человек. Так создается иерархия смыслов, которые определяют структуру мышления и пути самостановления человека в этой реальности.
Возникает потребность в формировании иерархии смыслов самого человека в этом окружении. Это иерархия престижности и соответствующее структурное распределение вещей как материализованных носителей этих смыслов.
Деонтологизация экономического бытия, рефлексии о которой тщательно избегают социальные институты, порожденные экономической реальностью, состоит в том, что Мысль как сугубо человеческий феномен подменяется фетишем как феноменом материальным, экономическим, антигуманным. Совершенно точно это формулирует Левинас: «Забота о вещах, об удовлетворении нужд – это падение, бегство от конечной цели, подразумеваемой этими нуждами; это непоследо-вательностъ, пусть роковая, но отмеченная неполноценностью и предосудительная» [6, с. 53].
Единственной возможностью сохранить динамику своего становления, которая будет формировать иллюзию динамики мысли о мире, становится раскручивание и интенсификация потребления. В торговых центрах концентрированная атмосфера погруженности в мир псевдомысли о Другом-как-Вещи, или Вещи-как-бытии, является для человека компенсацией за утраченную им самостоятельность «я». Символика товарного окружения человека, о которой много пишут Ж. Бодрийяр и его последователи, на самом деле лишь прикрывает гораздо более примитивную и одновременно более глубокую противопоставленность Мысли, Сознания и Материального мира. Ведь символы, по сути, есть мыслительные опоры, онтологические ориентиры, позволяющие человеку обеспечивать осмысленную интенциональную направленность на объекты мира, а, скажем, в торговом центре человек, продирающийся сквозь застывшую, навязанную рекламным миром символику, ищет способов иллюзорной самоидентификации, подчеркивания собственной уникальности, воспринимая Вещь не как Символ, а как Другого: «Различие – за каждой вещью, но за различием ничего нет» [7, с. 79].
Искусственная реальность торговых центров целиком владеет человеком, окружая его снаружи и контролируя его изнутри. Этот человек перестает действовать как целостное телеснодуховное существо. Я-как-вещь становится матрицей самоотождествления в искусственной реальности вещей. Вопрос «каков я есть» заменяется утверждением «каков ты должен быть», и это поведение человека становится определяющим для активности его сознания, которое заменяется потребительской активностью. Получается, что через идентификацию «я» через вещь-товар происходит обращение с людьми как с вещами.
Здесь мы приходим к выводу об «императивной онтологии» экономической реальности, особенно явно проявляющейся в феномене торговых центров. Навязанная реальность становится са-моотождествленной реальностью через этический и нравственный конформизм, который находит свое воплощение в потребительской стихии. С.Г. Кара-Мурза считает, что с помощью различных приемов у значительной части населения удается отключить способность к структурному анализу сообщений и явлений. Отсюда – кажущаяся чудовищной аморальность, двойные стандарты. На деле еще опаснее: люди стали неспособны именно анализировать [8, с. 67].
Пассивность субъекта в «спектакле мира» (по М. Мамардашвили), каким представляется торговый центр, становится основной бытийной функцией человека. Экономическая реальность создает своеобразную «инфраструктуру сознания» – то, в чем раньше субъект никогда не нуждался. Сократовское «познай самого себя» не подразумевало никаких дополнительных условий. Сегодня для собственного понимания требуются дополнительные конструкции, балансирующие между материальным миром и сознанием. Не случайно торговые центры часто строятся так, что во внешне объективных границах возникает царство иллюзорного субъективизма. Например, один из способов «завлечения» потребителя – это создание искусственных «лабиринтов». Сегодня существуют многочисленные способы подсознательного привлечения покупателей – распыление особых запахов, продуманная система кондиционирования. В хитросплетениях «ИКЕА» есть целая система световых акцентов на тех или иных торговых зонах, там существуют строго определенные расстояния между скамейками, аппаратами с прохладительными напитками. Поэтому потребительское общество – это общество инфраструктурное, в котором сознание заменяется условиями сознавания, где внешние обстоятельства начинают обретать контуры самостоятельных смыслов.
Ссылки:
-
1. Философия : учеб.-метод. комплекс / под ред. Н.В. Рябоконя. Минск, 2009.
-
2. Я [Электронный ресурс] // Новейший философский словарь. 3-е изд., испр. Минск, 2003. URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/fil_dict/955.php (дата обращения: 12.02.2016).
-
3. Левинас Э. Время и другой. Гуманизм другого человека. СПб., 1999.
-
4. Там же. С.171.
-
5. Там же. С.56.
-
6. Там же. С.53.
-
7. Делёз Ж. Повторение и различие. СПб., 1998.
-
8. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. М., 2000.
Список литературы Престижное потребление как мировоззренческий императив
- Философия: учеб.-метод. комплекс/под ред. Н.В. Рябоконя. Минск, 2009.
- Я //Новейший философский словарь. 3-е изд., испр. Минск, 2003. URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/fil_dict/955.php (дата обращения: 12.02.2016).
- Левинас Э. Время и другой. Гуманизм другого человека. СПб., 1999.
- Делёз Ж. Повторение и различие. СПб., 1998.
- Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. М., 2000.