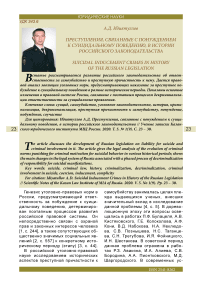Преступления, связанные с понуждением к суицидальному поведению, в истории российского законодательства
Автор: Идиятуллов Алмаз Дамирович
Журнал: Ученые записки Казанского юридического института МВД России @uzkui
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 1 (9) т.5, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается развитие российского законодательства об ответственности за самоубийство и преступную причастность к нему. Дается правовой анализ эволюции уголовных норм, предусматривающих наказание за преступное побуждение к суицидальному поведению в разные исторические периоды. Показаны основные изменения в правовой системе России, связанные с поэтапным процессом декриминализации ответственности за суицидальные проявления.
Суицид, самоубийство, уголовное законодательство, история, криминализация, декриминализация, преступная причастность к самоубийству, понуждение, побуждение, соучастие
Короткий адрес: https://sciup.org/142223704
IDR: 142223704 | УДК: 343.6
Текст научной статьи Преступления, связанные с понуждением к суицидальному поведению, в истории российского законодательства
Генезис уголовно-правовых норм в России, предусматривающий ответственность за побуждение к суицидальному поведению, детерминирован поэтапным процессом развития российской правовой системы. Он непосредственно связан с охраной прав и законных интересов человека [1, с. 244], а также сопутствующих общественно значимых социальных явлений [2, с. 557] к конкретному историческому периоду (этапу) [3, с. 44].
В российской уголовно-правовой науке исследованием исторических аспектов преступной причастности к самоубийству занималась целая плеяда выдающихся ученых, внесших значительный вклад в исследование данной проблемы [4, с. 5]. В дореволюционную эпоху эти вопросы освещались в работах П.Ф. Булацеля, А.В. Кистяковского, Г.Е. Колоколова, А.Ф. Кони, В.Д. Набокова, Н.А. Неклюдова, С.В. Познышева, Н.С. Таганцева, С.Н. Трегубова, И.Я. Фойницкого, И.Н. Шестакова. В советский период данная проблема отражена в работах Р.З. Авакяна, И.А. Алиева, С.В. Бородина, А.А. Пионтковского, М.Д. Шаргородского. В современных ус- ловиях диссертационные исследования данной проблеме посвятили О.С. Капинус, Э.В. Рыжов, Н.А. Сафонова, Ю.А. Уколова, В.Б. Хатуев, О.Р. Цой, А.А. Цыркалюк, Д.И. Эльмурзаев и др.
До конца Х века исторический период характеризуется преобладанием традиций, обычаев, обрядов, устоев в общественной жизни Древнерусского государства, основанного на политеистических культах языческих верований. В настоящее время не сохранились исторические памятники права, которые могли бы раскрыть особенности и содержание ответственности за преступное побуждение к самоубийству в указанную эпоху.
В литературе имеются сведения о религиозно-этнической традиции, принуждающей (побуждающей) древнеславянских женщин совершать ри- 24 туальное самоубийство путем самосожжения на кремационном костре мужа1. Самопожертвование в социальных интересах в это время было распространено среди вдов, лиц преклонного возраста, а также рабов, слуг после смерти их хозяина2.
В этот период самоубийство еще не рассматривалось как уголовно наказуемое деяние [5, с. 50]. Таким образом, до конца Х века в древнеславянском обществе эпизодически встречались человеческие жертвоприношения и самоубийства вдов, стариков, произведенные под психологическим воздействием религиозных чувств и внешним принуждением общины3.
С принятием христианства в Киевском государстве в конце Х века и его закреплением в качестве государственной религии происходит заимствование высокой правовой культуры Византии (наследницы античных государственно-правовых традиций), рецепция ее церковного законодательства [6, с. 73], а также правовых институтов в части криминализации различных форм деяний, связанных с причинением смерти [7, с. 13]. В дальнейшем, вплоть до конца XVII века, регулирование общественно-правовых отношений, связанных с самоубийством, производилось на основе религиозного законодательства Киевской Руси [8, с. 34], носившего ярко выраженный антисуици-дальный и репрессивный характер [9, с.12], обусловленный предоставлением духовенству широких административно-судебных полномочий4.
Кроме того, такое обстоятельство было вызвано тем, что в условиях несовершенства и зачаточного состояния правовой системы Киевской Руси пробелы право- 24 вого регулирования общественных отношений преимущественно восполнялись нормами церковного законодательства.
По церковным канонам самоубийство, то есть отрицание и попрание божественного дара жизни, согласно российской правовой традиции, признавалось одним из самых тяжких грехов, направленных против Создателя, христианской веры, общества и государства. Церковное законодательство руководствовалось 14ым каноническим ответом св. Тимофея Александрийского, в качестве наставления обязательного для исполнения священнослужителям, в котором любое деяние, направленное на самоубийство, квалифицировалось как преступное действие, по своей тяжести приравненное к убийству – «душегубству» [10, с. 170]. В качестве наказания тело самоубийцы не подлежало отпеванию, освящению, погребению по христианским правилам, что, по мнению церковного законодателя, лишало душу покаяния и надежды на спа-сение1. Такое правило не распространялось на лиц, покушавшихся на свою жизнь в состоянии безумия. Следует отметить, что религиозная кара на протяжении многих веков как в России, так и в зарубежных странах, являлась основой в борьбе за жизнь человека и защитным фактором против суицидального поведения.
В письменных памятниках церковного законодательства, регулировавшего семейно-брачные отношения, появляются правовые нормы с ответственностью за доведение до самоубийства, связанные в первую очередь с принудительными браками, в определенных случаях приводящими к самоубийству одного из супругов (ст. 24 Устава князя Ярослава Мудрого)2.
В связи с законодательными пре- 25 образованиями Петра I в начале XVIII века дела о самоубийствах, ранее находившиеся в ведении церкви, переходят под юрисдикцию официальных властей Российской империи [11, с. 36]. Возникает светская уголовная ответственность за самоубийство и покушение на него, предусматривающая смертную казнь (ст. 164 Артикула воинского 1715 г.; ст. 117 Морского устава 1720 г.)3.
Целью таких строгих законодательных предписаний становится предупреждение самоубийств среди государственных служащих, отражавшее непосредственное влияние римско-византийского права на российское законодательство XVIII века.
Законодатель, действуя по аналогии с установлениями римско-византийской правовой системы, предусмотрел такие смягчающие обстоятельства ответственности за попытку самоубийства, как «беспамятство, мучения или стыд». Самоубийство, совершенное вследствие «беспамятства и болезней», позволяло избежать позорной процедуры и захоронить тело самоубийцы по общим правилам, но вне кладбища. Таким образом, при судопроизводстве по делам о самоубийствах должны были учитываться психическое (душевное) состояние суицидента и его мотивы как серьезные основания, непосредственным образом влияющие на правовые последствия такого деяния, в том числе на наказание.
Свод законов Российской империи 1835 г. заключал в себе нормы об ответственности за самоубийство и попытку его совершения (ст. 347, 348), заимствованные из Артикула воинского 1715 г. Смертная казнь была заменена на каторжные работы, а впоследствии на тюремное заключение сроком от 6 месяцев до 1 года. Церковным властям было по- 25 зволено единолично принимать решение по поводу погребения лиц, покончивших с собой4. Тело самоубийцы больше не признавалось объектом судебного разбирательства, в результате положение о позорящей процедуре его поругания было исключено. Сохранение церковного наказания в виде лишения права на погребение за самоубийство вменяемого лица мотивировалось превентивными мерами.
Вторая половина XIX – начало XX века представляют качественно новый этап развития отечественного законодательства о самоубийстве, существенной особенностью которого явились изменения в уголовной политике Российской империи, обусловленные активной исследовательской и общественно-просветительской деятельностью русских ученых, разработавших тео- ретический фундамент, послуживший дальнейшей декриминализации самоубийства и установлению уголовно-правового запрета за деяния, связанные с побуждением к суицидальному поведению.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (в редакции 1885 г.) предложило посягательство на свою жизнь рассматривать как преступное деяние, заменив меры уголовного наказания ответственностью гражданско-правового и религиозного характера (ст. 1472, 1473). Перечень деяний, не влекущих ответственность за суицидальное поведение, был расширен. Наказанию не подвергались лица, лишившие себя жизни по мотивам патриотизма, сохранения чести, достоинства и целомудрия (ст. 1474). При этом криминализации были подвергнуты различные виды противоправной деятельности, направленные на побуждение 26 к самоубийству потерпевшего, такие как склонение к самоубийству; содействие самоубийству иного лица; доведение до самоубийства (ст. 1475, 1476). Законодатель рассматривал склонение к самоубийству и содействие ему как деяния, представляющие наибольшую общественную опасность, приравняв их к пособничеству в убийстве, назначая в качестве наказания каторжные работы на срок от 10 до 15 лет. Доведение до самоубийства относилось к привилегированному составу преступления и предусматривало следующие наказания (лишение определенных прав (преимуществ); непродолжительное тюремное заключение на срок от восьми месяцев до одного года четырех месяцев; церковное покаяние по решению духовенства). Ответственность за доведение до самоубийства распространялась на родителей, опекунов и других лиц1.
Российское законодательство применительно к самоубийству впервые в истории уделило внимание уголовно-пра- вовой защите лиц, отнесенных к категории социально-уязвимых граждан (несовершеннолетние, сироты, пожилые, инвалиды). Объективная сторона доведения до самоубийства содержала прямое указание на жестокое обращение с потерпевшим путем злоупотребления властью (родительской, попечительской и т.п.). Начиная с 1845 г., самоубийство в Российской империи фактически было декриминализовано, поскольку законодательство устранило уголовную ответственность за подобные деяния [12, с. 91].
Уголовно-правовые запреты на самоубийство и связанные с ним преступления продолжали действовать после смены общественно-политического строя в России (октябрь 1917 г.). Данное правило прекратило свое действие лишь после принятия 30 ноября 1918 г. Декрета (Положения) о Народном суде РСФСР, отменившего прежнее уголов- 26 ное законодательство царского периода2.
В советский период складывается уголовно-правая доктрина, основанная на индифферентном (безразличном) отношении к самоубийству взрослого вменяемого лица. Следует отметить, что первоначально в условиях гражданской войны и отсутствия судебных институтов (профессионального судейского сообщества) правосудие осуществлялось преимущественно военными трибуналами, руководствовавшимися принципами революционной целесообразности [13, с.11].
До появления первых советских кодифицированных актов в вопросах, связанных с самоубийствами, правоприменитель руководствовался приказом по отделу Центра розыска главного управления рабоче-крестьянской милиции № 4 от 02.07.1920, согласно которому о каждом подобном происшествии предписывалось сообщать в следственно-розыскные органы для последующего разбирательства3.
Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. стал первым советским уголовным законом, многие положения которого были основаны на дореволюционном законодательстве. Статья ст. 148 устанавливала уголовно-правовой запрет на содействие или склонение к самоубийству1. Субъектом преступления, как правило, становилось лицо, от которого потерпевший находился в зависимом положении в силу родительских, семейных или попечительских отношений. Состав преступления являлся материальным, а наказание устанавливалась в виде лишения свободы на срок до трех лет.
В Уголовном кодексе РСФСР 1926 г., помимо сохранения полного воспроизведения диспозиции и санкции ст. 148 УК РСФСР 1922 г., в ч. 2 ст. 141 была включена норма об ответственности за доведение до самоубийства (ч.1)2 .
Советская доктрина уголовного права, исходя из характера и степени общественной опасности, относила доведение до самоубийства к категории преступлений средней тяжести, а содействие и склонение к самоубийству – к незначительным преступлениям3.
Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. стал одним из успешных итогов обновления правовой системы СССР. Законодательной оценке причастности к самоубийству уделялось внимание в ст. 107, определяющей уголовную ответственность за доведение лица до самоубийства или покушения на него4. Состав преступле- ния дополнился новым квалифицирующим признаком (систематическое унижение личного достоинства потерпевшего). Преступление, как и в прежнем уголовном законе, относилось к категории средней тяжести, наказываясь пятью годами лишения свободы. Уголовный закон исключил из перечня наказуемых деяний содействие или склонение к самоубийству [14, с. 51]. На практике нередко встречались случаи самоубийств женщин, явившихся жертвами сексуального насилия (ч. 4 ст. 117 УК РСФСР)5.
Законодатель в процессе создания Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г.6 учел необходимость развития и укрепления уголовно-правовых методов борьбы с деяниями, сопряженными с самоубийствами [15, с. 34]. Объективная сторона доведения до самоубийства была расширена путем добавления нового способа совершения преступления 27 (высказывания угрозы потерпевшему) [16, с. 161]. Наказание за преступную причастность к самоубийству сохранило свое превентивное значение. К санкциям в виде пяти лет лишения свободы были добавлены альтернативные наказания ‒ ограничение свободы на срок до трех лет (с 1996 г.), принудительные работы на срок до пяти лет (с 2011 г.) [17, с. 295].
Судебная практика, столкнувшись с пробелом в законодательстве, в связи с отсутствием норм, предусматривающих ответственность за умышленное склонение потерпевшего к суициду, в определенных случаях пошла по пути применения действующей статьи о доведении до самоубийства. Например, по приговору Тобольского районного суда Тюменской области от 17.07.2017 гражданин Б. был осужден по ч.3 ст. 30, ст.110 УК РФ за умышленное вовлечение двух лиц несовершеннолетнего возраста в деятельность сообщества суицидальной направленности в сети Интернет и последующее склонение их к самоубийству1.
Высокая степень общественной опасности таких преступлений обусловила корректировку в 2017 г. УК РФ путем криминализации деяний в форме «склонения к совершению самоубийства или содействия совершению самоубийства» (ст. 1101), «организации деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства» (ст. 1102). Санкции таких преступлений при наличии квали- 28 фицирующих признаков влекут лишение свободы до 15 лет.
Норма об ответственности за доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ) подверглась значительному изменению путем добавления второй части с новыми квалифицирующими признаками в виде совершения преступления в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного (п. «а»); в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности (п. «б»); в отношении двух или более лиц (п. «в»); группой лиц по предварительному сговору или организо- ванной группой (п. «г»); в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или сети Интернет (п. «д»)2.
Таким образом, негативное отношение российского законодательства к самоубийству в течение длительного периода обусловливалось влиянием церковно-канонического права, основанного на нормах римско-византийской правовой системы. В рамках российской правовой системы отношение к самоубийству исторически развивалось по пути первоначальной криминализации и последующей декриминализации с одновременным установлением уголовно-правого запрета на различные формы преступной причастности к различным суицидальным проявлениям. Развитие российских уголовно-правовых норм об ответственности за понуждение (побуждение) к самоубийству содержит логическую интерпретацию отечественной правовой 28 системы, направленной на защиту жизни человека от различных форм преступного посягательства, обусловленных конкретными социально-историческими условиями. Исходя из характера и степени общественной опасности, российский законодатель в разные исторические периоды в зависимости от различных условий относил деяния в форме доведения до самоубийства, склонения к самоубийству, а также содействия в нем к различным категориям преступлений (от незначительного до особо тяжкого). В связи с этим существенно менялась их правовая оценка и система наказаний.
Список литературы Преступления, связанные с понуждением к суицидальному поведению, в истории российского законодательства
- Шалагин А.Е., Шалагина А.К. Девиантологические характеристики личности несовершеннолетнего правонарушителя // Вопросы педагогики. 2020. № 3-1. С. 243 - 248.
- Шалагин А.Е., Хрусталева О.Н. Теории преступного поведения: от истоков к современности // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2018. № 4 (34). С. 556 - 564.
- Цыркалюк А.А. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства: дис.. канд. юрид. наук. Тамбов, 2011. 163 с.
- Рыжов Э.В. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2019. 30 с.
- Эльмурзаев Д.И. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства: дис.. канд. юрид. наук. М., 2004. 162 с.
- Курбатов Г.Л., Фролов Э.Д., Фроянов И.Я. Христианство: Античность. Византия. Древняя Русь. Л.: Лениздат, 1988. 334 с.
- Глухов В.А. Становление и развитие уголовно-правовых норм Христианства и их рецепция Киевской Русью // Уголовно-исполнительное право. 2007. № 1 (3). С. 11 - 15.
- Уколова Ю.А. Проблемы квалификации доведения до самоубийства как преступного деяния: дис.. канд. юрид. наук. М., 2008. 219 с.
- Любов Е.Б., Зотов П.Б. К истории отношения общества к суициду // Суицидология. 2017. Т. 8. № 4 (29). С.9-30.
- Худяков С.С. Доведение до самоубийства - история развития отечественного уголовного законодательства // Правовая политика и правовая жизнь. 2009. № 3 (26). С. 169 - 174.
- Хатуев В.Б. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство: монография. М. Юрлитинформ, 2015. 448 с.
- Хатуев В.Б. Уголовно-правовое регулирование ответственности за самоубийство в российском уголовном законодательстве: прошлое и настоящее // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 11 (108). С. 81 - 95.
- Шкрыль Е.О. Становление и организационно-правовое развитие судебного управления и судебного надзора в РСФСР (1917 - 1940 гг.): историко-правовое исследование: автореф. дис.. канд. юрид. наук. Краснодар, 2005. 29 с.
- Бородин С.В. Преступления против жизни. М.: Юристъ, 1999. 356 с.
- Хатуев В.Б. Доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство: становление, состояние и проблемы уголовно-правовой регламентации в Российском уголовном законодательстве // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 9 (106). С. 27 - 40.
- Коробеев А.И. Преступные посягательства на жизнь и здоровье человека: монография. М.: Юрлитинформ, 2012. 320 c.
- Шалагин А.Е., Идиятуллов А.Д. Влияние алкоголизма на суицидальное и преступное поведение // Евразийский юридический журнал. 2018. № 7 (122). С. 294 - 297.