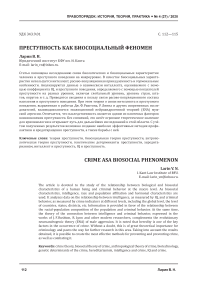Преступность как биосоциальный феномен
Автор: Ларин В.Н.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Проблемы правопорядка: взгляд молодых исследователей
Статья в выпуске: 4 (27), 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию связи биологических и биосоциальных характеристик человека и преступного поведения на макроуровне. В качестве биосоциальных характеристик используется интеллект, расово-популяционная принадлежность и гормональные особенности. Анализируются данные о взаимосвязи интеллекта, оцениваемого с помощью коэффициента IQ, и преступного поведения, определяемого с помощью показателей преступности на разных уровнях, включая глобальный уровень, уровень стран, штатов, округов и т. д. Приводятся сведения в пользу связи расово-популяционного состава населения и преступного поведения. При этом теория о связи интеллекта и преступного поведения, выраженная в работах Дж. Ф. Раштона, Р. Линна и других современных исследователей, взаимодополняется эволюционной нейроандрогенной теорией (ENA) мужской агрессии. Отмечается, что наследственность является одним из ключевых факторов возникновения преступности. Без сомнений, это несёт огромное теоретическое значение для криминологии и открывает путь для дальнейших исследований в этой области. С учётом полученных результатов возможно создание наиболее эффективных методик профилактики и предотвращения преступности, а также борьбы с ней
Теория преступности, биосоциальная теория преступности, антропологическая теория преступности, генетические детерминанты преступности, хередита-рианизм, интеллект и преступность, IQ и преступность
Короткий адрес: https://sciup.org/14119512
IDR: 14119512 | УДК: 343.9.01
Текст научной статьи Преступность как биосоциальный феномен
Изучение наследственного влияния, связанного с генетикой, на человека и его поведение, включая преступное, проводится в том числе на социально-демографическом макроуровне. Это возможно при исследовании показателей интеллекта, таких как IQ и их влияния на поведение; расово-популяционных особенностей и их значения и т. д.
Установлено, что отдельные гены, ответственные за IQ, расположены в хромосомах 2q, 6p и 7 [5, с. 34]. Согласно последним исследованиям, интеллектуальные способности человека являются врожденными более чем на 50 %, согласно исследованиям Ричарда Линна — вплоть до 84 % [3, с. 45—47]. При этом в соответствии с многофакторной моделью полигенного контроля [4, с. 107], эти способности не будут развиты вне общества так же, как генетически предопределенный характер мускулатуры не будет развит без соответствующего образа жизни, связанного с физическими нагрузками или упражнениями.
Описание исследования
Уже давно установлено, что между коэффициентом интеллектуального развития (IQ) и уровнем убийств существует обратная зависимость: т. е. чем ниже IQ, тем выше уровень убийств [12, с. 206]. Кроме того, такая зависимость имеется между коэффициентом IQ и вероятностью совершения жестоких преступлений. В соответствие с исследованиями, проведенными в США, с коэффициентом IQ связана общая преступность на уровне штата: в штатах с более низкими средними IQ в среднем были более высокие совокупные уровни преступности [13, с. 160—168]. Также в другом исследовании Бартелс, Райан, Урбан и Гласс выявили статистически значимые связи между IQ штата и как общим уровнем насильственных преступлений, так и уровнем убийств, уровнем нападений при отягчающих обстоятельствах, уровнем грабежей, общим уровнем преступлений против собственности, уровнем краж со взломом, уровнем краж и уровнем угона автомобилей [6, с. 579—583]. Данная связь была обнаружена и на уровне округа, при этом в исследовании были использованы данные по 243 округов, входящих в состав 31 штата. В данном исследовании были изучены окружной уровень преступлений против собственности, уровень краж со взломом в округе, уровень воровства в округе, уровень угона автотранспортных средств в округе, уровень насильственных преступлений в округе, уровень грабежей в округе и число нападений при отягчающих обстоятельствах в округе
[7, с. 22—26]. Во всех моделях связь между IQ и преступностью была статистически значимой как до, так и после включения в расчет меры концентрированного неблагополучия. В японском исследовании на основании криминологической статистики по убийствам с 2003 по 2012 год была установлена корреляция 0,6 между IQ и уровнем убийств [11, с. 513—514]. Исследование, опиравшееся на репрезентативную выборку заключенных из крупного южного штата США, показало, что IQ человека был в значительной степени связан с насильственными проступками, а IQ тюремного блока имеет значительную связь с проступками заключенных [8, с. 115—122].
Таким образом, большой объем эмпирических исследований показал, что интеллект индивида, выраженный в IQ и имеющий биосоциальную природу, умеренно-сильно прогнозирует целый ряд результатов в подростковом и взрослом возрасте, в том числе вовлечение в криминальное поведение и последующее совершение преступлений разной направленности. Подобная связь установлена и между общим уровнем IQ популяции и уровнем преступности.
Становится все более очевидным, что разные популяции, принадлежность к которым обусловлена человеческой биологией, обладают разными поведенческими способностями и интеллектуальными уровнями [11, с. 512]. При этом представители разных расовых групп соответственно чаще или реже совершают преступления.
Это подтверждается данными уголовной статистики. Чернокожее население в США, имеющее минимальные групповые показатели IQ, составляет порядка 12 % и имеет наименьший групповой IQ в США. При этом до 50 % заключенных в США являются чернокожими. Один из трёх чернокожих мужчин в США либо отбывает уголовное наказание в местах лишения свободы, либо имеет условный срок, либо находится под следствием. В соответствии с данными ежегодного отчёта Интерпола за 1990 г. уровень насильственных преступлений на 100 000 чел. населения составляет 32 — для аборигенов Восточной Азии, 75 — для европейцев, 240 — для африканцев [3, с. 107—108]. Это подтверждается анализом Джареда Тейлора и Глейда Уитни, согласно которому чернокожие в 50 раз чаще совершают насильственные преступления (физическое насилие, ограбление, изнасилование) против белых, чем белые против чернокожих [15, с. 485—510]. Современные данные на данную тему отражены в докладе «Colorofcrime» за 2016 г. [14]. В соответствии с ними на 2013 г. из примерно 660 000 преступлений межрасового насилия, в которых принимали участие чернокожие и белые, первые являлись преступниками в 85 % случаев. Таким образом, чернокожий человек был в 27 раз более склонен к нападению на белого человека, чем наоборот; латиноамериканец был в восемь раз более склонен к нападению на белого человека, чем наоборот [14].
Таким образом, существуют резкие различия между расами в показателях преступности. Как и было отмечено, у восточных азиатов самые низкие показатели преступности, за ними следуют белые, затем представители иберо-американских этносов, и только затем чернокожие. При этом представленная модель является верной практически для всех категорий преступности и всех возрастных групп [14].
Представленные данные при этом не могут быть объяснены при помощи строго социальной теории. Не может служить объяснением расизм и дискриминация по отношению к данным группам, а также другие чисто социальные объяснения. Расовая предвзятость при арестах, если и существует, то незначительна, что подтверждается Национальной системой отчетности об инцидентах (NIBRS), в соответствии с которой в большинстве преступлений чернокожие составляют больший процент зарегистрированных преступников, чем арестованных [14]. Только в семи из 22 категорий преступлений NIBRS черные составляли большую долю арестов: убийства, контрафакция/поддел-ка документов, растрата, мошенничество, преступления с кражей имущества, преступления с наркотиками и азартные игры. Интересно, что это преступления, в отношении которых не может быть никаких свидетелей, например, растрата или похищение имущества, или преступления «без жертв», такие как преступления, связанные с наркотиками и азартные игры. Расовая идентификация подозреваемых в этих случаях может быть ненадежной. В то же время в преступлениях с прямым контактом с жертвами, в которых можно четко определить расу правонарушителя, показатели ареста чернокожих ниже зарегистрированных. Например, 73 % грабителей были идентифицированы как чернокожие, однако на чернокожих пришлось только 59 % арестованных грабителей [14, с. 4].
Различие в экономическом благополучии также не может быть удовлетворительным объяснением, т. к. не объясняет различия между уровнями преступности разных в равной степени экономически неблагополучных расовых групп [9, с. 37—39]. Более того, экономическое развитие и доходы человека имеют определенную связь с интеллектом, который определяется в весомой степени генетикой [2, с. 89—108].
Для объяснения помимо теории связи преступности с уровнем интеллекта предлагается эволюционная нейроандрогенная теория (ENA) мужской агрессии. При этом обе теории дополняют друг друга. В соответствии с ENA люди с более высокими показателями маскулинности в результате пренатальной и взрослой жизни тестостерона и андрогенов увеличивают шансы добычи ресурсов для выживания, привлечения самок и взаимодействия с другими людьми [10, с. 61—74]. При этом расовые различия в уровне андрогенов также объясняют различия в уровне преступности [9, с. 41—51].
Заключение
Подводя итоги, можно отметить, что наследственность является одним из ключевых факторов возникновения преступности. Была выявлена связь между уровнем интеллекта (определяемым в соответствии с баллами IQ), который имеет биосоциальную природу и определяется наследственно на уровне от 50 % до 81 %, и показателями преступности на разных уровнях, включая глобальный уровень, уровень стран, штатов, округов и т. д. Тем не менее необходимо отметить, что представление о биологическом и генетическом вкладе в формирование преступности не исключает дополнительного влияния среды. Уже было отмечено, что не следует из-за идеологических причин отказываться от огромных возможностей, которые даёт биосоциальная наследственная теория [1, с. 117]. Это же касается и результатов, полученных в рамках исследований данной направленности на макроуровне.
Список литературы Преступность как биосоциальный феномен
- Ларин,В.Н. Рецепция наследственной теории преступности / В.Н.Ларин // Правопорядок: история, теория, практика. — 2019. — № 2 (21). — С. 113—119.
- Линн, Р. Интеллект и экономическое развитие / Р. Линн // Психология. Журнал ВШЭ. — 2008. — № 2. —С. 89—108.
- Линн, Р. Расовые различия в интеллекте. Эволюционный анализ / Р.Линн ; пер. с англ. РумянцевД. О. — Москва : Профит Стайл, 2010. — 304 с.
- Раштон,Дж.Ф. Раса, эволюция и поведение. Взгляд с позиции жизненного цикла / Дж. Филипп Раштон ; пер. с англ. Румянцев Д. О. — Москва : Профит Стайл, 2011. — 416 с.
- Филипцова, О. В. Популяционно-генетический анализ поведенческих признаков: опыт изучения населения Украины : специальность 03.00.15 «Генетика» : дис. ... д-ра биол. наук / Филипцова Ольга Владимировна. — Харьков, 2009. — 340 с.
- BartelsJ. М., RyanJ.J., Urban L. S., Glass L.A. (2010) Correlations between estimates of state IQ and FBI crime statistics. Personality and Individual Differences, vol. 48 no 5, pp. 579—583. DOI: 10.1016/j. paid.2009.12.010
- Beaver К. M., Wright J. P. (2011) The association between country-level IQ and county-level crime rates. Intelligence, vol. 39, issue 1, pp. 22—26. DOI: 10.1016/j.intell.2010.12.002
- Diamond В., Morris R. G., Barnes J. C. (2012) Individual and Group IQ Predict Inmate Violence. Intelligence, vol. 40, no 2, pp. 115—122. DOI: /10.1016/j.intell.2012.01.010
- Ellis, L. (2017) Race/ethnicity and criminal behavior: Neurohormonal influences. Journal of Criminal justice, vol. 51, pp. 34—58. DOI: 10.1016/j.jcrimjus.2017.05.013
- Ellis L., Hoskin A. W. (2015) The evolutionary neuroandrogenic theory of criminal behavior expanded. Aggression and Violent Behavior, vol. 24, pp. 61—74. DOI: 10.1016/j.avb.2015.05.002
- Kura K. (2013) Japanese north-south gradient in IQ predicts differences in stature, skin color, income, and homicide rate. Intelligence, vol. 41, no 5, pp. 512—516. DOI: 10.1016/j.intell.2013.07.001
- Lester D. (2003) National Estimates of IQ and Suicide and Homicide Rates. Perceptual and Motor Skills, vol. 97, no 1, p. 206. DOI: 10.2466/PMS.97.4.206-206
- PestaB. J., McDanielM. A. (2010) Toward an index of wellbeing for the fifty U.S. states. Intelligence, vol. 38, issue 1, pp. 160—168. DOI: 10.1016/j.intell.2009.09.006
- Rubenstein E. S. (2016) The Color of Crime. 2016 Revised Edition. Oakton: New Century Foundation.
- Taylor, J., Whitney, G. (1999) Crime and racial profiling by U.S. police: Is there an empirical basis? Journal of Social, Political and Economic Studies, vol. 24, pp. 485—510.