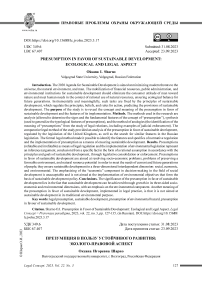Презумпция в пользу устойчивого развития: эколого-правовой аспект
Автор: Шарно О.И.
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Правовые проблемы охраны окружающей среды и использования природных ресурсов
Статья в выпуске: 3 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
Введение: повестка устойчивого развития до 2030 г. направлена на минимизацию современных угроз мирозданию, природной среде, человеку. Мобилизация финансовых ресурсов, государственного управления, природоохранных институтов в целях устойчивого развития должна исключить потребительское отношение человека к природе и удовлетворять его потребности путем рационального использования природных ресурсов для сохранения экологического баланса в будущем. Инструментально и содержательно такие задачи закреплены принципами устойчивого развития, которые регламентируют начала, убеждения, правила к действию, презюмируя положения устойчивого развития. Цель исследования: раскрыть понятие и значение презумпции в пользу устойчивого развития, особенности ее реализации.
Правовая презумпция, устойчивое развитие, презумпция экологической опасности, презумпция в пользу устойчивого развития
Короткий адрес: https://sciup.org/149144476
IDR: 149144476 | УДК: 349.6 | DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2023.3.17
Текст научной статьи Презумпция в пользу устойчивого развития: эколого-правовой аспект
DOI:
Современный мир обусловлен решением глобальных и локальных экологических проблем, связанных с климатом, глобальным потеплением, снижением углеродного следа и негативного воздействия на природу и человека, сохранением запасов пресной воды, обеспечением экологической и продовольственной безопасности. Разрешение данных вопросов включено в Повестку устойчивого развития до 2030 г., а именно формулировку 15-летнего плана, содержащего задачи по мобилизации финансовых ресурсов, государственного управления, укрепления природоохранных институтов, направленные на достижение целей устойчивого развития – борьбы с нищетой и голодом, защиты климата, мирового океана, рационального использования при- родных ресурсов, повышения качества образования и жизни на Земле, обеспечения безопасности мест проживания людей и обитания всего живого. Современные угрозы мирозданию и природной среде, благоприятность которой напрямую влияет на человека, его существование, развитие и жизнеобеспечение, возникли вследствие длительного исторического периода потребительского отношения к природе. Так, самостоятельность, уникальность природы, характеризующие представление о мире в эпоху Античности, уже в Средние века уступают место творцу природы – Богу и его подобию, Человеку, лишая природу самостоятельности. Символическое толкование природы в тот период в рамках христианской традиции исторически надолго устана-вило такие штампы, как: человек – царь природы, независимый от внешних влияний, Бог дает человеку тело и животную душу – как связующие его с природой элементы, над которой Человек призван владычествовать [10, с. 409]. Данные постулаты, как и феномен ан-топроцентризма («трактовка человеческого бытия как цели мирового процесса, позиции человека в мире как центральной» [7, с. 302]), на длительный исторический период закрепляются в парадигме «человек – природа», отражая главенство первого и вторичность, где-то производность второго. В результате актуализируются потребительское отношение человека к природе, а также проблемы, ставшие значимыми и глобальными для разрешения в рамках устойчивого развития. Сущность данной концепции состоит в удовлетворении потребностей, опосредованном рациональным использованием компонентов природы и ее ресурсов с целью обеспечения экологического баланса для будущих поколений, так как «природа всегда была в прошлом и будет вовеки веков в будущем, если состоится, если человек сумеет обеспечить себе это будущее» [11, с. 22–30]. Подобная позиция положительно демонстрирует традиции устойчивости и природоохранной сущности отношений «человек – природа». Принципы устойчивого развития реализуемы в соответствии с тезисом И. Пирса, выдвинутым в 1878 г., согласно которому «убеждения являются правилами для действия» [7, с. 302]. Подобные убеждения заложены, на наш взгляд, в правовые презумпции, то есть предположения, которые обеспечивают устойчивое развитие в разрезе «человек – природа», а именно презумпции: потенциального вреда и допустимости разрешенного негативного воздействия на экосистему; «вины» природо-пользователя; деградации естественных (экологических) систем; конституционности природопользования и признания права человека на благоприятную среду, экологической справедливости. Совокупность данных предположений (презумпций) должна быть сведена к «презумпции в пользу устойчивого развития», предполагающей решение социально-экономических задач при условии сохранения природно-ресурсного потенциала благоприятной окружающей среды и в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений.
Понятие и эколого-правовое значение презумпций
Исследование презумпций как средств правового регулирования и правореализации предпринимаются в общей теории права, а также в отраслевых правовых направлениях, в том числе эколого-правовом. Вместе с тем в доктрине права в общем и в теории экологического права в частности единое и однозначное понимание презумпций отсутствует. По мнению В.К. Бабаева, «вопросы применения презумпций крайне трудны и во многом не разработаны наукой. Одни из них не нашли единой трактовки, другие еще не стали предметом научного исследования» [4, с. 5]. Проблематика определения термина «презумпция», ее классификационных оснований сохраняют черты дискуссионности. До настоящего времени «не сформированы обобщающие рекомендации о том, как они должны применяться в правоприменительной практике» [15, с. 23]. «Природа презумпции как юридического явления остается дискуссионной, что сказывается на его определении. Почти каждый исследователь презумпции предлагает свою дефиницию. Сам термин провоцирует различные толкования» [2, с. 25–26]. По мнению Ю.Г. Арзамасова, «рraesumptio в переводе с латинского означает предположение, косвенно или прямо закрепленное в правовой норме, в соответствии с которым определенный порядок вещей в области социальных отношений признается обыденным и не нуждающимся в доказывании» [3, с. 72–76]. Презумпция представляется и как «компонент механизма правового регулирования (М.Л. Давыдова)» [1, с. 247–248], «презумпции являются нетипичным правовым предписанием, которое, при определенных обстоятельствах, может быть опровергнуто (А.П. Анисимов)» [8].
Анализ различных толкований термина «презумпция» дает возможность говорить о том, что презумпция – это вывод из конкретного факта в форме предположения; это заключение, которое делается на основе конкретных фактов; это правило, позволяющее предположить наличие либо отсутствие чего-либо. Презумпция есть аргумент, являющий рациональное и разумное предположение чего-либо и допускающий в качестве аргумента быть доказательством. При этом мы разделяем мнение О.В. Баулина, который отрицает возможность отнесения любой гипотезы к презумпции, что чревато появлением взаимоисключающих «презумпций» [6, с. 299]. В этой связи согласимся с авторитетной позицией В.М. Баранова, который интерпретирует презумпции в праве с позиции методологии, обнаруживая в них «способ правового регулирования, прием юридической (законодательной) техники, общий правовой метод, юридический метод толкования» [5]. Применительно к целям устойчивого развития презумпция есть средство, обеспечивающее реализацию экологического законодательства в соответствии с принципами «устойчивости», путем ее законодательного закрепления или правоприменения, что допустимо, так как правовая презумпция выступает в качестве юридического факта. На важное значение презумпций обращает внимание Т.В. Кашанина, фиксируя их «оценочное значение» [9, с. 188], что важно, на наш взгляд, в большей степени для правоприменения. Действительно, анализ судебной практики позволяет убедиться в том, что в вопросах возмещения экологического вреда, презумпция потенциального вреда антропогенного воздействия обеспечивает возмещение ущерба, причиненного окружающей среде в полном объеме – независимо от того, причинен он в результате умышленных действий (бездействия) или по неосторожности [12]. Презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности в судебной практике означает, что любая деятельность является экологически опасной, так как способна нанести вред окружающей среде, что учитывается при принятии управленческих и государственных решений [13]. Презумпция в пользу устойчивого развития используется и применяется при принятии управленческих и государственных решений относительно, например при выдаче разрешений на строительство, субсидий на внедрение солнечных батарей, в процессе инвестирования программ и предприятий, функционирующих в соответствии с принципами устойчивого развития. При этом реализация экологического законодательства основывается на опровергаемых и неопровергаемых презумпциях.
Под опровергаемыми (не окончательными, не убедительными, не абсолютными) презумпциями мы понимаем предположения относительно факта, применение которого требует дополнительного доказательства вследствие отсутствия должной и достаточной его аргументации. Это такое предположение, которое может быть опровергнуто доказательствами обратного. В частности, массовый мор рыбы в водоеме, расположенном близ предприятия, использующего в своей деятельности водные ресурсы, может презюмироваться в качестве вины при принятии решения о возбуждении дела об административном правонарушении либо проведении предварительного расследования по уголовному делу, так как действует презумпция опасности антропогенной деятельности. В то же время экспертное заключение, установившее причину мора рыбы – длительное повышение температуры воздуха – становится доказательством, опровергающим данную презумпцию как максиму «res ipsa loquitur» – « происходящее говорит само за себя» в конкретном правоприменительном случае. К опровергаемым можно отнести и презумпцию конституционности экологической правовой нормы, предположительно устанавливающей, что принимаемые государством нормативные предписания соответствуют и не противоречат Конституции как основному закону страны, пока не будет доказано противоположное. Опровержимость данной презумпции возможна, что подтверждается следующим примером. В рамках приведения в соответствие с конституционными экологическими нормами механизма гарантий оплаты энергоресурсов на производственном объекте Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что впредь до внесения в действующее правовое регулирование необходимых изменений все неустранимые сомнения по вопросу наличия (отсутствия) обстоятельств, свидетельствующих об угрозах экологических катастроф (гибели людей) вследствие прекращения поставок энергоресурсов применительно к опасным производственным объектам должны толковаться в пользу их наличия [14].
Под неопровергаемыми (окончательными, убедительными, абсолютными) презумпциями мы понимаем предположения, не тре- бующие дополнительного обоснования конкретных обстоятельств, фактов. К ним могут быть отнесены и те, которые считаются истинными в соответствии с законом, либо те, которые не могут быть опровергнуты доказательствами обратного, что в отдельных случаях освобождает заинтересованных лиц от необходимости фактически доказывать истинность предполагаемого факта. Неопровер-гаемые презумпции – это такие предположения, которые не могут быть изменены доказательствами или аргументами. К ним можно отнести презумпцию потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной и иной деятельности (ст. 3) [16] при проведении экологической экспертизы. Данное предположение однозначно и неопровержимо презюмируется и фиксируется в нормативном акте, как данность для принятия решения о производстве государственной экологической экспертизы. К неопровергаемым презумпциям мы относим и презумпцию в пользу устойчивого развития, как предположение (все решения должны приниматься с учетом сохранения природно-ресурсного потенциала, благоприятной окружающей среды в ретроспективе), получившее свое распространение в ходе реализации Рио-де-Жанейрской декларации об окружающей среде и развитии от 03–04.06.1992, Парижского соглашения от 04.11.2016, Конвенции ООН по устойчивому развитию от 20–22 июня 2012 г., Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, принятой Указом Президента Российской Федерации от 01.04.1996 № 440.
Представляется, что одни и те же презумпции в зависимости от назначения, нормативного закрепления и особенностей применения могут быть и опровергаемыми, и нео-провергаемыми, что видно из вышеприведенных примеров. Вместе с тем целесообразно, чтобы неопровергаемые презумпции служили некой заданностью, облаченной в закон, позволяя безусловно регламентировать отношения человека и природы в русле устойчивости и в том ее значении, которое придается устойчивому развитию в соответствии с большинством международных и национальных нормативных документов – обеспечивать удовлетворение потребностей и рост в их трехгранном социо-экономико-экологическом измерении с акцентом на экологическую составляющую. При этом опровергаемые презумпции применимы в положительном ключе именно в правоприменении, так как оспаривание их абсолютности возможно лишь в случае наличия допустимых и достоверных доказательств.
Презумпция в пользу устойчивого развития и ее реализация в российском законодательстве
Презумпция в пользу устойчивого развития как в большей степени неопровергае-мая презумпция даже в случае законодательного закрепления не всегда трактуется, реализуется и применяется с акцентом на природоохранную сущность. Так, она может являться нормативным предписанием, но в значении лишь экономического развития, отрицающего экологическую природоохранную сущность, либо ее реализация отдается на усмотрение правоприменительным органам (действующим не всегда «экологично»), в чем можно убедиться в следующем случае.
Презумпция в пользу устойчивого развития в качестве средства принятия решений положена в основу National Planning Policy Framework (Основы национальной политики планирования, 2012 г. с изменениями, внесенными в 2021 г.) (далее – NPPF) – программы территориального развития, принятой Правительством Великобритании в качестве поддержки экономического роста [17]. Ключевой принцип NPPF – акцент на стимулировании экономического развития. NPPF распространяет свое действие на региональное и местное развитие. Для региональных тенденций презумпция в пользу устойчивого развития означает, что планы региона должны быть достаточно гибкими к внутренним и внешним изменениям с тем, чтобы достигать целей устойчивого развития (экономических), для местного развития должны учитываться объективные потребности, отказ от которых возможен, только если негативные последствия значительно или явно перевесили бы материальные выгоды. NPPF как программа развития, основанная на презумпции устойчивого развития в экономическом разрезе, служит ориентиром для принятия решений, что означает: а) безотлагательное утверждение предложений по развитию, которые соответствуют современному плану устойчивого экономического развития; б) в тех случаях, когда отсутствуют соответствующие стратегии плана развития, а применение политики NPPF допускается при условии, что любые негативные последствия такого подхода значительно и явно перевесили бы экономические выгоды. Презумпция в пользу устойчивого развития не меняет законодательного статуса плана развития территорий, но служит отправной точкой для принятия решений, являясь проходящей «золотой нитью» через процесс разработки соответствующих стратегических экономических планов.
Логика применения рассматриваемой в соответствии с политикой NPPF презумпции состоит в том, что для устойчивого развития необходим экономический рост, поэтому система планирования должна стимулировать привлечение инвестиций, а не становиться препятствием к экономическому развитию «с оглядкой» на необходимость соблюдения социальных и экологических принципов и стандартов («экологическое» не должно тормозить «экономическое»). Тем не менее подобная логика имеет, на наш взгляд, существенные (в эколого-правовом смысле) недостатки в виде негативного экологического сценария как в краткосрочной, так и в долгосрочное перспективе. Полагаем, что общеустановленная трактовка устойчивого развития не может быть основана исключительно на экономическом росте и продвижении, потому как устойчивое развитие имеет три измерения: экономическое, социальное и экологическое. Соответственно, экономическое развитие не может игнорировать экологическое назначение и эволюционировать изолированно от него. Более того, тот факт, что устойчивое развитие не может быть достигнуто без определенных видов роста, не означает, что все виды роста способствуют устойчивому развитию в его трехгранном социоэкономико-экологическом измерении. Полагаем, что для рассматриваемой в рамках презумпции устойчивого развития программы предполагается не простой экономический рост, а устойчивое развитие с учетом экологической составляющей в его традиционном понимании. Политика применения презумпции в пользу устойчивого развития, положенная в основу NPPF, дистанцируясь от экологических тенденций, способна оказать негативное влияние на локальную, национальную и даже трансграничную окружающую среду. Использование презумпции в пользу устойчивого развития в качестве лингвистического инструмента для оправдания неустойчивого экономического роста показывает, насколько это далеко от истинной теоретической устойчивости и достижения глобального экологического и климатического равновесия. Поэтому в рассматриваемом NPPF значении презумпция в пользу устойчивого развития рассматриваться не может.
Реализация презумпции в пользу устойчивого развития в разрезе зарубежного опыта показательна для национальных практик. Например, в российском законодательстве презумпция в пользу устойчивого развития не упоминается. Вместе с тем похожие с NPPF тенденции заложены еще в Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, принятой Указом Президента Российской Федерации от 01.04.1996 № 440, где в разделе V отражены критерии принятия решений и показатели устойчивого развития, а именно то, что выгода от хозяйственной деятельности не может быть оправдать экологический ущерб, если превышает его размер; вред окружающей среде должен быть настолько низким, насколько может быть достигнут с учетом социально-экономических факторов. Данные критерии положены в основу принятия решений органами исполнительной власти и их применение зависит от конкретных правоисполнительных усмотрений. Так, ранее действовавший Приказ Минприроды России от 08.07.2014 № 313 «Об утверждении правил тушения лесных пожаров», допускал прекращение работ по тушению пожара в зоне контроля при отсутствии угрозы населенным пунктам или объектам экономики в случаях, когда прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть им причинен (п. 8.1), выдвигало на «первый план» экономическую целесообразность, в особенности когда очаг возгорания находится далеко от населенных пунктов. Подобная практика, на наш взгляд, не соответствует целям устойчивого разви- тия, достижению экологической безопасности и подвергалась обоснованной критике. В 2019 г. Минприроды России инициировало предложение о внесении изменений в данный приказ, предложив обеспечить тушение лесных пожаров вне зависимости от их удаленности от населенных пунктов и стоимости ликвидации очага возгорания. По итогам рассмотрения и обсуждения данного предложения Приказом Минприроды от 01.04.2022 № 244 были утверждены новые Правила тушения пожаров. Согласно п. 10 данных Правил, предыдущая трактовка оказалась сохранена с оговоркой о принятии соответствующего решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с одновременным направлением обосновывающих материалов в Федеральный штаб по координации деятельности по тушению лесных пожаров. Как мы видим, существенного изменения в смысловом значении не произошло, а принятие решения также осталось зависимым от усмотрения исполнителя с акцентированием экономической выгоды. Полагаем, что в таком значении нормативное закрепление или применение презумпции в пользу устойчивого развития экологически не оправдано. Презумпция в пользу устойчивого развития должна закрепляться, трактоваться и применяться с опорой на экологическую составляющую и именно в таком значении должна быть положена в основу принятия решения о прекращении либо приостановке работ по тушению лесного пожара, что будет отвечать реализации целей устойчивого развития.
Выводы
Рассматриваемые презумпции в целом и презумпция в пользу устойчивого развития в частности являются инструментами, средствами для обеспечения реализации целей и принципов устойчивого развития, посредством либо законодательного закрепления либо правоприменения в статусе опровергаемых и не опровергаемых презумпций. При этом презумпции эколого-правового значения должны стимулировать устойчивое развитие в трехмерном взаимообусловленном измерении: социальном, экономическом, экологическом. Выделение «экономической» составляющей при принятии решений недопустимо и не направлено на реализацию природоохранных задач, достижения политики устойчивого развития, формирующего ценности Человека, живущего в гармонии с природой.
Список литературы Презумпция в пользу устойчивого развития: эколого-правовой аспект
- Анисимов, А. П. Презумпции в экологическом праве / А. П. Анисимов // Аграрное и земельное право. – 2013. – № 2 (98). – С. 4–10.
- Анисимов, П. В. К вопросу о юридической презумпции как средстве юридической техники / П. В. Анисимов // Философия права. – 2014 . – № 5 (66). – С. 25–26.
- Арзамасов, Ю. Г. О понятии презумпций и их месте в системе средств юридической техники / Ю. Г. Арзамасов // Юридическая техника. – 2010. – № 4. – С. 72–76.
- Бабаев, В. К. Презумпции в советском праве / В. К. Бабаев. – Горький: Изд-во ГВШ МВД СССР, 1974. – 124 с.
- Баранов, В. М. Методологические предпосылки формирования теории правовых презумпций / В. М. Баранов, В. Б. Першин, И. В. Першина // Юридическая техника. – 2008. – № 2. – С. 18–28.
- Баулин, О. В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел / О. В. Баулин. – М.: Городец, 2004. – 272 с.
- Введение в философию: учебник для вузов. В 2 ч. Ч. 1 / под общ. ред. И. Т. Фролова. – М.: Политиздат, 1990. – 367 с.
- Давыдова, М. Л. Теоретические и методологические проблемы понятия и состава юридической техники: дис. ... д-ра юрид. наук / Давыдова Марина Леонидовна. – Волгоград, 2010. – 220 с.
- Кашанина, Т. В. Юридическая техника: учебник / Т. В. Кашанина. – М.: Эксмо, 2007. – 510 c. 10. Кемеров, В. Е. Хрестоматия по социальной философии / В. Е. Кемеров, Т. Х. Керимов. – М.: Акад. проект, 2001. – 576 с.
- Моисеев, Н. Н. Современный рационализм / Н. Н. Моисеев. – М.: МГВП КОКС, 1992. – 376 с.
- Постановление АС Дальневосточного округа от 30 мая 2022 г. № Ф03-2216/2022 по делу № А59-3758/2021. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: https://kad.arbitr.ru/Card/7b401a52-bdf8-47fa-a5fc-aede83a199ef. – Загл. с экрана.
- Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 4 апреля 2022 г. по делу № 25-АД22-1-К4. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=709710#4S6LjtTwNOyIH2f. – Загл. с экрана.
- Постановление Конституционного Суда РФ от 01.02.2022 № 4-П. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: https://base.garant.ru/403479452/. – Загл. с экрана.
- Пронина, М. П. Презумпции в современном российском праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2010. – 25 с.
- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об экологической экспертизе». – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8515/. – Загл. с экрана.
- National Planning Policy Framework. – Electronic text data. – Mode of access: https://www.gov.uk/government/publications/nationalplanning-policy-framework—2. – Title from screen.