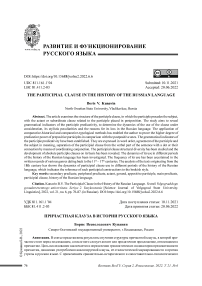Причастная клауза в истории русского языка
Автор: Кунавин Борис Всеволодович
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 6 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены результаты изучения структуры причастной клаузы, в которой причастие стоит перед подлежащим, а после него следует актант или придаточное предложение, относящиеся к причастию. Цель исследования заключается в определении грамматических индикаторов предикативности причастия, динамики употребления анализируемой клаузы, ее стилистической маркированности и причин утраты в русском языке. С применением сравнительно-исторического и сопоставительно-типологического методов доказана более высокая степень предикативной силы препозитивных причастий в сравнении с постпозитивными. Установлены грамматические индикаторы предикативности причастия, которые выражаются в порядке слов, согласовании по смыслу причастия и подлежащего, отделении точкой причастной клаузы от глагольной части предложения или их соединении посредством сочинительного союза. Выявлено структурное многообразие рассматриваемой причастной клаузы, и охарактеризованы пути развития на ее основе абсолютивных причастных клауз. Сделан вывод о частотности употребления причастной клаузы в разножанровых памятниках письменности XI-XVII веков. С привлечением текстов XVIII в. показана динамика использования исследуемых причастных клауз в различные периоды истории русского языка, свидетельствующая о тяготении таких причастных конструкций к книжному стилю.
Второстепенное сказуемое, периферийный предикат, актант, герундий, аппозитивное причастие, главный предикат, причастная клауза, история русского языка
Короткий адрес: https://sciup.org/149141661
IDR: 149141661 | УДК: 811.161.1’04 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2022.6.6
Текст научной статьи Причастная клауза в истории русского языка
DOI:
Причастия в древнерусском языке отличались высокой степенью употребительности, что было обусловлено их необычайной синтаксической подвижностью, выражавшейся в многообразии функций. Особенно активны были именные действительные причастия в именительном падеже, находящиеся на одной синтаксической линии с глаголом-сказуемым в составе предложения.
Отмечая высокую предикативную силу именных действительных причастий в древнерусском языке, исследователи со времен А.А. Потебни указывают на их функционирование в качестве единственного предиката в составе nominativus absolutus, dativus absolutus, genitivus absolutus, придаточной части сложноподчиненного предложения [Кунавин, 2008].
Однако вне внимания многих ученых оставалась структурная перестройка конструкций с причастием, ярко свидетельствующая о его функциональных преобразованиях на пути перехода в деепричастие. Данным фактом в значительной мере обусловлена актуальность настоящего исследования.
Актуальность исследования клаузы с причастием в вершине заключается также в ее существенности для доказательства высокой предикативной силы древнерусского именного действительного причастия, поскольку она использовалась в односубъектных оборотах и ее невозможно истолковать иначе как оригинальную. Другие конструкции, отражающие высокую предикативную силу причастия (nominativus absolutus, обороты типа въставъ и рече), многими исследователями не признаются самотождественными.
Важность ее изучения обусловлена тем, что она характеризовалась выраженной предикативностью в границах односубъектной конструкции, имея для этого собственные грамматические показатели, с которыми невозможно не согласиться.
Дело в том, что, например, именительные самостоятельные обороты некоторые исследователи, находясь под впечатлением современного языкового восприятия, определяли либо как именные предложения [Růžička, 1963; Zubaty, 1954; и др.], либо как анаколуфы без соответствующего глагольного сказуемого [Кудрявский, 1916], либо как обороты с опущенной связкой [Никифоров, 1952], либо как квазисамостоятельные [Ferrand, 1976], а союз между причастием и глаголом считали либо ошибкой писца [Miklošich,1883], либо частицей [Kurz, 1958].
Недостаточная изученность истории именных действительных причастий не позволяет адекватно описать особенности синтаксического употребления деепричастий в современном русском языке. К настоящему времени, несмотря на значительное количество работ, посвященных деепричастию [Абдулхакова, 2007; Бахаева, Хабусиева, 2018; Безроднова, 2009а; Кудрявцева, 2012; Чупаше-ва, 2008; Haspelmath, 1995], остается множество неразрешенных проблем. Не определен грамматический статус деепричастия, противоречиво характеризуется его связь с глаголом-сказуемым и подлежащим, остается дискуссионным вопрос о синтаксической роли де-
РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ епричастий, не решена проблема нормативности ряда конструкций с деепричастием и др.
Цель статьи заключается в выявлении грамматических индикаторов предикативности причастия, в определении динамики употребления анализируемой клаузы, ее стилистической маркированности и причин утраты.
Материал и методы исследования
В работе использованы следующие методы: сравнительно-исторический, сопоставительно-типологический, трансформационный, а также прием количественной характеристики.
Материалом исследования послужила личная картотека автора, содержащая около 300 фрагментов текстов с причастными клаузами. Языковые факты извлечены методом сплошной выборки из разнообразных произведений, относящихся к XI–XVII векам.
Результаты и обсуждение
Многие исследователи древнерусских причастий касались проблемы порядка слов в аспекте выявления степени их предикативности.
Предикативность причастий выражается в терминах «аппозитивное причастие» и «второстепенное сказуемое». Впервые термин «аппозитивное причастие» был употреблен Г. Курциусом по отношению к греческому причастию. Он полагал, что аппозитивное причастие в сравнении с атрибутивным обладает большей предикативной силой [Curtius, 1870, S. 201]. Затем данный термин в отношении к древнерусскому причастию начал использовать А.А. Потебня [Потебня, 1958, с. 489]. При определенных условиях аппозитивными могут быть, согласно мнению А.А. Потебни, также прилагательные и существительные [Потебня, 1958, c. 109]. Вместе с тем, стремясь подчеркнуть бóльшую предикативную силу причастия в сравнении с существительными и прилагательными, автор начинает употреблять по отношению к нему термин «второстепенное сказуемое», которым именует и синтаксическую функцию инфинитива [Потебня, 1958, с. 373–375]. Термин «аппозитивный» используется также для обозна-
РУССКОГО ЯЗЫКА чения сочетания приложения с определяемым словом [Корнилов, 2008; Малахов, 2008].
Особая предикативная сила причастия в древнерусском языке выражалась в использовании причастной связки в сочетании с именными предикативами, в соединении причастия с глаголом в спрягаемой форме союзом и , в функционировании причастного сказуемого в именительных самостоятельных оборотах и, как их разновидности, в придаточной части сложноподчиненного предложения [Потебня, 1958, c. 185, 208] В сравнении со своим предшественником «деепричастие, напротив, является достаточно узкоспециальной грамматической формой» [Гращенков, 2014, с. 35], в отличие, например, от английского герундия, характеризующегося большим функциональным разнообразием [Cornilescu, 2004; Pires, 2001; Reuland, 1983].
В дальнейшем приведенные аргументы А.А. Потебни были дополнены Е.С. Истри-ной, указавшей на отделение причастной клаузы точкой от остальной части предложения, а также на согласование причастия по смыслу с подлежащим, что свидетельствует о ее автономном по отношению к глаголу-сказуемому характере. Е.С. Истрина отказывается от термина «аппозитивное причастие» и использует лишь термин «второстепенное сказуемое», отрицая полное подчинение такого сказуемого главному предикату [Истрина, 1919, c. 80]. Данная точка зрения была принята многими исследователями (см., например: [Абдулхакова, 2007; Růžička, 1963; Večerka, 1959; и др.]).
Однако спорным представляется суждение Е.С. Истриной о том, что причастное действие в семантическом плане является второстепенным относительно действия главного сказуемого, хотя и было поддержано исследователями [Абдулхакова, 2007; Гращенков, 2014; и др.]. Данное суждение оспаривал Р. Ружичка, заменив термин «второстепенное сказуемое» термином «периферийный предикат». Согласно его мнению, периферийный предикат отличается от центрального своей грамматической (не семантической) зависимостью, которая проявляется в его устремленности к центральному предикату. Предикация центрального предиката носит закрытый характер, а предикация периферийного предиката характеризуется как открытая и требует закрытия глагольным сказуемым. Периферийный предикат отличается от второстепенного члена предложения тем, что он грамматически не подчиняется главному сказуемому так, как ему подчиняется обстоятельство в современном русском языке [Růžička, 1963, S. 20].
Следуя отечественной традиции, мы предпочитаем термин «второстепенное сказуемое», под которым понимаем грамматическую зависимость от глагольного сказуемого.
Итак, в древнерусском языке была трехступенчатая градация членов предложения: главные члены предложения – второстепенное сказуемое – второстепенные члены предложения. Второстепенное сказуемое выражало предикативность через посредство главного сказуемого, без которого не могло выражать ни времени, ни лица, ни модальности [Истри-на, 1919, c. 83].
Впрочем, ставить точку в данном вопросе еще рано, ибо некоторые исследователи пытались отождествить причастный предикат в определенных конструкциях с главным сказуемым [Руднев, 1959, c. 83–84; Růžička, 1963, S. 226; Večerka, 1959, s. 38], а также с деепричастием [Ferrand, 1983].
По месту относительно главного сказуемого причастия подразделяются на препозитивные и постпозитивные. Впервые подобное деление осуществила Е.С. Истрина. Выражение «постпозитивное причастие» встречается уже у А.А. Потебни [Потебня, 1958, c. 198], однако их обоснованного деления на препозитивные и постпозитивные по приведенному выше основанию у него нет.
Деление причастий на препозитивные и постпозитивные было вызвано различиями в их предикативной силе, то есть степень предикативности причастия тесно увязывалась с порядком слов [Истрина, 1919, c. 84]. Было отмечено, что у препозитивного причастия степень предикативности выше, нежели у постпозитивного. Данная точка зрения возобладала во многих дальнейших исследованиях.
Покажем указанное различие на примере следующей конструкции:
-
(1) Кудесникъ же вставъ , рече новгородцю (ПЛДР, вып. 1, с. 32).
В приведенном контексте находящееся в препозиции второстепенное сказуемое вставъ открывает предикацию предложения и нуждается в ее закрытии главным сказуемым в финитной форме. Конструкция делится на две клаузы: зависимую с второстепенным сказуемым и самостоятельную с главным предикатом. Ср.: Кудесник же вставъ / рече новгородцю . Если же второстепенное сказуемое переместить в постпозицию, то его предикативная сила ослабеет. Ср.: Кудесник же рече, вставъ, новго-родцю . При подобном перемещении стоящее в препозиции к причастному предикату главное сказуемое непосредственно закрывает предикацию предложения, а второстепенное сказуемое выражает лишь дополнительный предикативный признак, значительно ослабленный за счет изменения своей позиции в высказывании.
Таким образом, в препозиции психологическая роль второстепенного сказуемого существеннее, чем в постпозиции (то есть выраженное им представление занимает второе место после подлежащего по порядку появления в сознании, а при обратном порядке слов – первое), поскольку в последнем случае выражаемое причастием действие отступает на далекую периферию предикации [Kuehner, 1904, S. 98; Růžička, 1963, S. 172].
Помимо указанного психологического критерия, свидетельствующего о большей предикативной силе препозитивного второстепенного сказуемого, чем постпозитивного, есть и чисто грамматические показатели. Во-первых, препозитивное причастие намного чаще, чем постпозитивное, соединяется сочинительным союзом с финитным глаголом в роли главного сказуемого. Во-вторых, именно препозитивное причастие употребляется в конструкции с порядком слов, характерным для оборотов с финитным глаголом. При таком порядке слов второстепенное сказуемое предшествует подлежащему, а после подлежащего стоит второстепенный член или придаточное предложение, относящееся к этому второстепенному сказуемому, вследствие чего оно отрывается от главного сказуемого и обретает бóльшую самостоятельность, имея непосредственную связь с подлежащим. Ср.:
-
(2) Услышав же Девгений мольбы Стратиго-вы, возвратись в дом Стратигов (ПЛДР, вып. 3, с. 56).
Данная точка зрения не представляется единственной. Некоторые исследователи полагают, что, наоборот, препозитивное второстепенное сказуемое обладает меньшей предикативной силой в сравнении с постпозитивным, но при этом не приводится никаких доводов [Никифоров, 1952, c. 247; Шатух, 1958, c. 198]. В этой связи сказанное Д.Н. ОвсяникоКуликовским и поддержанное В.В. Виноградовым относительно современных деепричастий вполне актуально и для древнерусских именных действительных причастий в именительном падеже. Д.Н. Овсянико-Куликовский справедливо подчеркивал, что стоящие в препозиции к сказуемому-глаголу деепричастия обладают большой глагольностью, а в постпозитивном положении их глагольность понижается и они легче поддаются адвербиализации [Виноградов, 1972, c. 310]. С логической точки зрения невозможно ставить степень предикативности в зависимость от позиции предикативного члена в предложении, а в психологическом аспекте, в плане актуального членения подобная зависимость несомненна, тем более если она подкрепляется грамматическими показателями.
Целесообразность деления второстепенных сказуемых на препозитивные и постпозитивные обусловлена также и тем, что с позицией в определенной мере связаны особенности выражения ими таксисных отношений. «Так, препозитивные причастия прошедшего времени обычно обозначают действие, предшествующее действию главного сказуемого или реже – одновременные с ним, но никогда не могут обозначать последующее действие. Постпозитивные же причастия могут обозначать как предшествующее и одновременное, так и последующее действие» [Кунавин, 1993, c. 31] (об этом см. также: [Безроднова, 2009б; Зорихина-Нильссон, 2014; Семенова, 2002]).
Как уже было показано выше, наиболее очевидно предикативная сила второстепенного сказуемого проявляется при таком порядке слов, когда второстепенный член предложения или придаточное предложение, относящиеся к второстепенному сказуемому, расположены после подлежащего, а само второстепенное сказуемое предшествует подлежащему. Наиболее часто указанный второстепенный член предложения представляет собой актант в виде косвенного или прямого дополнения, например:
-
(3) Прием же блаженый священый сан , бол-шее смирение приат (ПЛДР, вып. 3, с.74).
Иногда к второстепенному сказуемому относятся несколько однородных дополнений, в результате чего степень самостоятельности второстепенного сказуемого еще более увеличивается. Ср.:
-
(4) И помолився преподобный Варлаамъ господу богу и пречист 4 й богородицы и вс 4 мъ свя-тымъ, вниде во гробъ свой (ПЛДР, вып. 6, с. 420).
Примечательны примеры, в которых дополнение, относящееся к второстепенному сказуемому, располагается, как обычно, после подлежащего, а относящееся к нему определение стоит перед второстепенным сказуемым. Ср.:
-
(5) Его же убоявъся Святополкъ въстаниа на ся, скоро възврати съ честью игумена в Печерь-ский манастырь (ПЛДР, вып. 2, с. 560).
Такие обороты с обстоятельством, относящиеся к второстепенному сказуемому, в древнерусских текстах на протяжении всей многовековой истории русского языка довольно редки. Ср.:
-
(6) И пос 4 девъ Давыд мало , рече... (ПЛДР, вып. 1, с. 250);
-
(7) И вышедъ Ярополкъ въ градъ Ольговъ, перея власть его (ПЛДР, вып. 1, с. 88).
Данные обороты важно отличать от таких, в которых в позиции после подлежащего стоит элемент, являющийся частью единого второстепенного сказуемого, то есть образует с ним одно семантическое целое. Ср.:
-
(8) Быв же Адам лет 200 и 30 роди Сифа и 2 дщери (ПЛДР, вып. 1, с. 104).
Иногда в анализируемых материалах встречаются такие конструкции, в которых исследуемый оборот речи разделен с главным сказуемым каким-либо синтаксическим построением, обычно придаточным предложением, например:
-
(9) Вид 4 въ же благов 4 рный князь Георгий изведение пресвятыя богородицы, гд 4 сама изво-
- лила м4сто себ4, повел4 построити на том м4ст4 монастырь (ПЛДР, вып. 3, с. 214).
В приведенном предложении по причине далекого разделения второстепенного сказуемого с главным степень предикативности первого усиливается.
Анализируемая конструкция с местоименной формой причастия встретилась лишь однажды. Такое употребление обусловлено воздействием аналогии со стороны соответствующей именной формы. Ср.:
-
(10) ...Завидяй же диаволъ спасению вс 4 х, со-блазнивъ его... (ПЛДР, вып. 7, с. 66).
Данное синтаксическое построение встретилось в различных повествовательных жанрах, в том числе в посланиях и даже в грамотах, например:
-
(11) И пришедши (жен. р. вместо муж. – Б. К. ) под Соколъ воевода твой виленской со многими людми , город Соколъ новымъ умышлением зжегъ (ПЛДР, вып. 8, с. 188).
Данные памятников письменности разных периодов показывают, что указанная причастная клауза использовалась нечасто, причем обычно в начале предложения. Подобные синтаксические построения в середине предложения, как правило сложного, встречаются необычайно редко. Ср.:
-
(12) И изволением божиимъ наплылъ на него корабль муринской земли, и видя карабельник человека утопшаго, взялъ его из моря к себ 4 на корабль (ПЛДР, вып. 10, с. 349).
В приводимом ниже примере (13) анализируемой клаузе предшествует дательный самостоятельный оборот (dativus absolutus):
-
(13) И отпевшим молебная и литургию пре-звитером его служившимъ, и покаявся онъ у духовного отца своего, и причастися пречистаго т 4 ла... (ПЛДР, вып. 7, с. 568).
Только однажды встретился исследуемый оборот речи с формой причастия настоящего времени в постпозиции относительно главного предиката:
-
(14) ...Глагола к нему парящи птица на аер 4 (ПЛДР, вып. 2, с. 202).
В таком случае степень предикативности причастия ослаблена вследствие соседства с главным сказуемым, находящимся в препозиции к нему. Эта ослабленность обусловлена тем, что предикативность в предложении уже реализована глаголом-сказуемым, а причастие сообщает лишь дополнительную предикацию. Вместе с тем относящийся к причастному предикату второстепенный член, отделенный от причастия подлежащим, в определенной мере поддерживает ослабленную предикацию причастия. Малая предикативная сила причастия в данном случае подтверждается также путем применения к данной клаузе трансформационного метода. Она легко трансформируется в полное причастие или деепричастие.
Второстепенное сказуемое в анализируемой конструкции логико-интонационно выделено, что выражается частым употреблением после него частицы же. Значительно реже в указанной функции выступает частица убо , например:
-
(15) Восприяв убо от царя Пелея Язонъ от-плыти отпущение новая проходит моря со Ераку-ломъ и со своими спутники (ПЛДР, вып. 6, с. 230). Характерной чертой приведенной причастной клаузы является отделение причастного сказуемого от подлежащего дополнением, что усиливает степень его предикативности вследствие большей его оторванности от главного сказуемого.
Подлежащее в таких оборотах речи обычно выражено либо именем собственным, либо личным местоимением, и в этом смысле они полностью изоморфны соответствующим конструкциям с финитной формой глагола на месте причастия.
Наиболее употребительной анализируемая клауза была в летописях, житиях, повестях, а также в переводных с греческого языка текстах. Р. Ружичка приводит примеры употребления причастий с подобным порядком слов из евангельских текстов на старославянском языке [Růžička, 1963].
Начиная с XV в., то есть с развитием в русском языке стилей [Колесов, 1989], эта конструкция закрепляется за высоким стилем. Со временем она перестала употребляться в прозаических текстах, в то время как в по- эзии продолжала использоваться [Булаховс-кий, 1958, c. 423]. Вплоть до XVII в. данная конструкция встречалась в церковнославянском языке, ориентировавшемся на архаизацию. Вместе с тем подобный словопорядок изредка имел место и в народной речи, свидетельством чему являются фольклорные тексты, в которых в данной конструкции стоит деепричастие на месте древнего причастия [Истрина, 1919, c. 79].
Нельзя исключать того, что проникновение указанной причастной клаузы в фольклорные произведения обусловлено влиянием церковнославянского языка, особенно при учете широкого распространения грамотности на Руси и обучения грамоте по Библии.
Конструкции с деепричастием встречаются в текстах Г. Котошихина, сочинениях Аввакума, а также в светских повестях XVII века. Ср.:
-
(16) Помоля я бога , взяв две сети в протоке перекидал (ПЛДР, вып. 11, с. 398).
В приведенном примере исследуемая клауза выступает в качестве однородной со следующей конструкцией, имеющей непосредственную связь с финитной клаузой, в то время как первая такой связи не имеет, вследствие чего ее предикативная сила значительно возрастает.
-
(17) И видя князь те перстни , завязал их в ту же тафтицу (ПЛДР, вып. 10, с. 347).
В приведенном примере с причастием в форме настоящего времени анализируемая клауза непосредственно контактирует с главным предикатом. Данный факт обусловливает снижение ее предикативной силы.
-
(18) И сведав царь у некоторого своего ближнего челов 4 ка дочь , д 4 вицу добру ростом и красотою и разумом исполнену вел 4 л взяти к себ 4 на двор (ПЛДР, вып. 11, с. 255–256).
Особенностью контекста (18) является то, что в анализируемой конструкции к причастному предикату относятся два дополнения, косвенное и прямое, причем последнее распространено приложением, вследствие чего степень предикативности причастия еще более усиливается.
В церковнославянском языке XVII в. данная структура анализируемой клаузы с деепричастием на месте причастия встречается весьма редко. В произведениях светской литературы она использовалась несколько чаще, хотя и была пережиточным явлением, что подтверждается как исследованным материалом, так и наблюдениями других ученых.
Наиболее часто указанная клауза в XVII в. использовалась и в переводах светских художественных текстов, как правило с польского языка. В «Повести о Петре Златых Ключей» (ПЛДР, вып. 10, с. 323–379), например, она встретилась более 20 раз. Употребление данного оборота в светской литературе, видимо, обусловило его утрату в церковнославянских текстах, подвергшихся в XV в. архаизации. Причем даже из книжных вариантов предпочитался более редкий. Архаиза-торские тенденции в церковнославянских текстах должны были бы стимулировать употребление в них анализируемой устаревшей клаузы. Однако этого не происходит, поскольку она употреблялась в светской литературе и даже в народной речи.
В текстах XVIII в., по мнению Л.А. Бу-лаховского, употребление исследуемой конструкции объясняется влиянием французского герундия. Исчезновение в русском языке исследуемого оборота речи было связано с переходом причастий в деепричастия, которые, утратив непосредственную связь с подлежащим, перестали замыкаться с ним в одной клаузе, тяготея к глаголу-сказуемому. В результате, как показано Л.А. Булаховским, в предложении с деепричастием выработалось наиболее рациональное размещение лексем; связанные друг с другом члены располагаются как можно ближе относительно друг друга [Булаховский, 1958, c. 423]. Исчезновение исследуемой клаузы с подобным порядком следования членов свидетельствует о совершенствовании структуры простого предложения, обусловленном не только возникновением в языке новой категории, но и смешением стилей.
В аспекте актуального членения причастное сказуемое в анализируемой клаузе в качестве первой темы выносится в начало предложения, а второстепенный член, выступая в роли ремы, располагается в конце клау- зы. Подлежащее обозначает данное и, как следует из собранного материала, выражается именем собственным или личным местоимением. Замещение причастием начала предложения в качестве первой темы полностью исключает возможное альтернативное актуальное членение в случае с обычным порядком следования элементов конструкции.
Параллельно с проанализированной выше причастной клаузой в древнерусском языке употреблялся и другой синтаксический оборот с причастием в вершине, предшествующим подлежащему, после которого следовало придаточное предложение, относящееся к причастному предикату, например:
-
(19) Вид 4 въ же дьявол, яко почти богъ че-лов 4 ка , позавид 4 въ ему, преобразися въ змию (ПЛДР, вып. 1, с. 102).
Степень предикативной силы причастия по причине его большей оторванности от глагола-сказуемого в подобных конструкциях возрастает в сравнении с проанализированными выше оборотами.
В редких случаях к причастному предикату могли относиться более громоздкие конструкции, увеличивающие разрыв между второстепенным сказуемым и центральным предикатом. Ср.:
-
(20) Вид 4 въ воевода, яко ничтоже, киновию ратующе, успевают, яко ниже козньми, ниже хит-ростьми и умышлением, каковыми, ниже взяти возмогоша, но безд 4 лни и посрамлени вспять от-хождаху , отлагаетъ прочее надежду от киновии (ПЛДР, вып. 10, с. 169).
В приведенном примере второстепенное сказуемое разделено с главным конструкцией с подчинением и сочинением, включающей в свой состав три грамматические основы.
Такие обороты речи были характерны для всей многовековой истории русского языка, однако встречались необычайно редко и в дальнейшем были утрачены.
Заключение
Именное действительное причастие древнерусского языка, в отличие от современного деепричастия, характеризовалось большей предикативной силой, выступая в функции второстепенного сказуемого. В односубъектных конструкциях данный факт выражался не только в том, что причастный предикат соединялся с глагольным посредством сочинительного союза, но и в особой структуре причастной клаузы, изоморфной структуре с глагольным сказуемым. Высокая предикативная сила причастия в указанной клаузе выражалась в особом порядке слов, в возможности согласования по смыслу с подлежащим – собирательным существительным, в отделении точкой от остальной части предложения. Хотя в сравнении с конструкциями, в которых причастие не имеет столь непосредственной связи с подлежащим, исследованный оборот речи употреблялся относительно редко, ему было свойственно конструктивное разнообразие. Ко второстепенному сказуемому могли относиться дополнения, обстоятельства, придаточные предложения, причем иногда таких распространителей могло быть несколько. Расстояние между исследованной причастной клаузой и главным сказуемым могло увеличиваться за счет употребления между ними придаточного предложения, а также более громоздких конструкций. Все это способствовало усилению предикативного веса второстепенного сказуемого.
Несмотря на то что причастная клауза с указанным порядком слов употреблялась в сочинениях протопопа Аввакума и Г. Котоши-хина, язык которых близок к народной речи, а также изредка использовалась в фольклорных произведениях, ее следует признать книжной, ибо она была наиболее характерна для житий, летописей, повестей, переводных текстов. Переход причастий в деепричастия и изменение стилей обусловили исчезновение исследованной клаузы.
Наличие такой клаузы убедительно свидетельствует о высокой предикативной силе причастия в односубъектных конструкциях, а следовательно, подкрепляется суждение о том, что синтаксические построения, включающие ее, были оригинальными явлениями древнерусского языка. Более того, есть все основания предполагать, что именно такого рода причастные клаузы послужили развитию на их основе именительных самостоятельных оборотов в древнерусском языке.
Именительные самостоятельные обороты, как и дательные самостоятельные, компенсировали неразвитость гипотаксиса в древнерусском языке, выражая зависимость отглагольной части предложения формой именного действительного причастия при своем особом подлежащем. Важнейшим условием их возникновения было далекое расположение глагольного и причастного предикатов при едином подлежащем, подобное расположение наблюдается в проанализированной клаузе.
Дальнейшие исследования древнерусских причастных конструкций следует вести по пути их сопоставления с деепричастными оборотами современного русского языка, а также определения случаев нарушения норм употребления современных деепричастий, возможно обусловленных функциональным и конструктивным многообразием древнерусских причастий, к которым они генетически восходят. Подобные исследования помогут ограничить объяснение некоторых периферийных деепричастных конструкций иноязычным влиянием, а также преодолеть заблуждение относительно перспектив развития абсолютивных деепричастных оборотов в современном русском языке.
Список литературы Причастная клауза в истории русского языка
- Абдулхакова Л. Р., 2007. Категория деепричастия в русском языке. Казань: Казан. гос. ун-т. 186 с.
- Бахаева Л. М., Хабусиева Т. М., 2018. Теоретические предпосылки изучения деепричастия в русском языке // Русский язык. Филологический аспект. № 7 (39). С. 5–11.
- Безроднова О. М., 2009а. Деепричастия русского языка в контексте функционально-семантического поля таксиса и соответствия русским деепричастиям в немецком языке // Вестник Башкирского государственного университета. Т. 10, № 3. С. 432–436.
- Безроднова О. М., 2009б. Таксисные значения причастий русского языка // Вестник Башкирского государственного университета. № 1. С. 87–91.
- Булаховский Л. А., 1958. Исторический комментарий к русскому литературному языку. Изд. 5-е, доп. и перераб. Киев: Радянська школа. 488 с.
- Виноградов В. В., 1972. Русский язык. Грамматическое учение о слове. Изд. 2-е. М.: Высш. шк. 614 с.
- Гращенков П. В., 2014. К эволюции нефинитных форм глагола // Вестник Московского государственного университета им. М.А. Шолохова. № 3. С. 34–54.
- Зорихина-Нильссон Н. В., 2014. ACTA LINGUISTICA PETROPOLITANA. Таксисные деепричастные конструкции с глаголами стандартного положения в пространстве в русском языке // Труды института лингвистических исследований. Т. 10, № 3. С. 273–298.
- Истрина Е. С., 1919. Синтаксические явления 1 Новгородской летописи // Известия отделения русского языка и словесности. Пг.: [б. и.]. Кн. 2. С. 1–172.
- Колесов В. В., 1989. Древнерусский литературный язык. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та. 296 с.
- Корнилов Н. В., 2008. Критерии разграничения определяемого слова и приложения в аппозитивных сочетаниях // Русский язык в школе. № 5. С. 63–67.
- Кудрявский Д. Н., 1916. К истории русских деепричастий. Деепричастия прошедшего времени // Ученые записки Юрьевского университета. Т. 10. С. 1–79.
- Кудрявцева Т. Ю., 2012. Синтаксическая функция деепричастия с позиций современных лингвистических воззрений // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. № 2. С. 65–66.
- Кунавин Б. В., 1993. Функциональное развитие системы причастий в древнерусском языке: дис. ... д-ра филол. наук. СПб. 702 с.
- Кунавин Б. В., 2008. Причастные самостоятельные обороты в древнерусском языке. Владикавказ: Сев.-Осет. гос. ун-т. 104 с.
- Малахов А. С., 2008. О связи компонентов в аппозитивных сочетаниях // Русский язык в школе. № 5. С. 68–73.
- Никифоров С. Д., 1952. Глагол, его категории и формы в русской письменности второй половины ХVI в. М.: АН СССР. 344 с.
- Потебня А. А., 1958. Из записок по русской грамматике. Т. 1–2. М.: Учпедгиз. 536 с.
- Руднев А. Г., 1959. Обособленные члены предложения в истории русского языка // Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена. Т. 174. 254 с.
- Семенова Н. В., 2002. Семантика таксиса. Концептуализация и категоризация. Великий Новгород: Новгор. гос. ун-т. 265 с.
- Чупашева О. М., 2008. Грамматика русского деепричастия. Мурманск: Мурм. гос. пед. ун-т. 197 с.
- Шатух М. Г., 1958. Краткие действительные причастия и их синтаксические функции в письменных памятниках ХI–ХII вв. // Труды Одесского государственного университета им. И.И. Мечникова. Серия филологических наук. Т. 148, вып. 8. С. 195–202.
- Cornilescu А., 2004. Gerund Clauses // Complementation in English. A Minimalist. Perspective. Bucharest: [s. n.]. URL: http://ebooks.unibuc.ro/filologie/cornilescu/14.pdf
- Curtius G., 1870. Erleuterungen zu meiner Griechischen Schulgrammaik. Zweite Auflage. Prag.: Verlag Von F. Tempsky. 224 S.
- Ferrand M., 1976. La phrase russe ancienne reconstruitе ou le mythe du participe quasi autonome. T. 1. P.: [s. n.]. 282 p.
- Ferrand M., 1983. Le participle /gérondif/ apparemment coordonné a son verbe principal et le même tour avec subordonnée en vieux russe et ailleurs en indo-européen // Revue des études slaves. T. 55, fasc. 1. P. 43–55.
- Haspelmath M., 1995. The Converb as a Cross-Linguistically valid category // Converbs in Cross-Linguistic Perspective / ed. by M. Haspelmath, E. König. Berlin ; N. Y.: Mouton de Gruyter. Р. 1–55.
- Kuehner R., 1904. Ausfuehrliche Grammatik der griechischen Sprache von Dr. Raphael Kuehner. 2 Teil. Satzlehre. 2 Band. Dritte Auflage in zwei Bänden. Neuer Bearbeitung besorgt von Dr. Gerth. Hannover ; Leipzig: [s. n.]. 714 S.
- Kurz I., 1958. Problematika zkaumánί syntaxe staroslovenskeho jazyka a nástin rozboru vyznamu častic i, a a pod. v konstrukcich participialnich vaseb s určitymi slovesy // K historicko-srovnávacίmu studio slovenskych jazyku. Praha: [s. n.]. S. 83–107.
- Miklošich F., 1883. Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen von Franz Miklosich. 4 Band. Syntax. Wien: Braumüller. 895 S.
- Pires A., 2001. Clausal and TP-Defective Gerunds: Control Without Tense // Proceedings of NELS 31 / ed. by M. Kim, U. Strauss. Amherst: [s. n.]. Р. 386–406.
- Reuland E. J., 1983. Governing -ing // Linguistic Inquiry. № 14. Р. 101–136.
- Růžička R., 1963. Das syntaktische System der altslavischen Partizipien und sein Verhaetltnis zum Griechischen. Berlin: Akademia-Verlag- Berlin. 395 S.
- Večerka R., 1959. Ke genesi slovanskich konstrukci participia praes. act. a praet. act. 1 // Sbornik praci filosof. fak. Brnenske university. Ročnik 8. Rady jazykovedne, vyd. A.7. S. 37–49.
- Zubaty I., 1954. K vykladu nekterých prislovci, zvláste slovenskych // Studie a clánky. Svarek 2. S. 106–161.