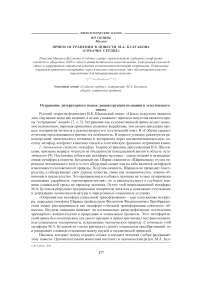Прием остранения в повести М.А. Б улгакова «Собачье сердце»
Автор: Ян Силянь
Журнал: Известия Волгоградского государственного педагогического университета @izvestia-vspu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 3 (196), 2025 года.
Бесплатный доступ
Повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце» представляет глубинные конфликты советского общества 1920-х годов в антиутопическом повествовании. Уникальный языковой стиль и нарративная стратегия повести соответствуют теории остранения. Остранение нарушает привычное восприятие через языковые отклонения, что обеспечивает важную перспективу для интерпретации повести.
«Собачье сердце», остранение, М.А. Булгаков, абсурд, социальная критика
Короткий адрес: https://sciup.org/148330646
IDR: 148330646
Текст научной статьи Прием остранения в повести М.А. Б улгакова «Собачье сердце»
Русский теоретик-формалист В.Б. Шкловский писал: «Целью искусства является дать ощущение вещи как видение, а не как узнавание; приемом искусства является прием “остранения” вещей» [5, c. 5]. Остранение как художественный прием делает знакомое незнакомым, нарушая привычное языковое выражение, тем самым продлевая процесс восприятия читателя и реконструируя его эстетический опыт. В «Собачье сердце» отчетливо прослеживается именно эта особенность. В повести успешно реализуется реконструкция читательского познания и восприятия через антиконвенциональную систему метафор, конфликт языковых стилей и эстетическую функцию остранения языка.
-
1. Аномальные системы метафор. Теория остранения, предложенная В.Б. Шкловским, призвана вырвать читателя из обыденности повседневной жизни в область эстетического [9]. Постановка собаки как метафоры человека – самая мощная и нетрадиционная метафора в повести. Бездомный пес Шарик становится «Шариковым» путем пересадки человеческого мозга, и этот абсурдный сюжет сам по себе является метафорой изменчивости человеческой природы. Получив личность, Шариков не проявляет благородства, а обнаруживает свои дурные качества, такие как мошенничество, ложное обвинение и предательство. Это превращение из собаки в человека не только сатирически показывает ущербность «пролетариев-изгоев», но и свидетельствует о глубоком влиянии социальной среды на характер человека. Путем этой нетрадиционной метафоры М.А. Булгаков разрушает традиционное восприятие читателя и показывает отчуждение и деградацию человеческой натуры в определенных социальных условиях.
-
2. Конфликт и сопоставление языковых стилей. Языковые стили в «Собачьем сердце» характеризуются характерными конфликтами и сопоставлениями. Аристотель подчеркивал необычность языка и сюжета, полагая, что, сделав обычное и привычное необычным и странным, стиль не будет безвкусным, а зрители получат удовольствие от удивления [8]. Вульгарный язык Шарикова резко контрастирует с научным жаргоном доктора. Например, выражая свое недовольство, Шариков использует много уличного сленга и эксплицитных выражений, таких как «Отлезь, гнида!», «Сукины дети!» [2, с. 45]. Хирург Филипп Филиппович, напротив, использует строгие медицинские термины, такие как «подайте отросток и тут же шить <...>. Пульс резко падает» [Там же, с. 25]. Это столкновение языковых стилей не только подчеркивает классовый и культурный антагонизм между Шариковым и профессором, но и, благодаря эффекту языкового остранения, позволяет читателю почувствовать напряжение повествования в двух совершенно разных способах выражения.
-
3. Эстетическая функция остранения языка. Остранение языка М.А. Булгакова замедляет когнитивный процесс читателя и усиливает художественную выразительность текста благодаря деформации и реконструкции языка. В повести сцена хирургического вмешательства не изображается в традиционном медицинском повествовании, а превращается в «безумный ритуал», полный символизма за счет преувеличенных метафор и абсурдных деталей. Движения докторов перед операционным столом показаны драматически: Филипп Филиппович «оскалил фарфоровые и золотые коронки и одним приемом навел на лбу Шарика красный венец» [Там же, с. 21]. Его поведение полно ритуального насилия, как будто он совершает какое-то мистическое жертвоприношение. Затем он «зверски оглянулся на него, что-то промычал и врезался еще глубже» [Там же]. Это изображение не только подчеркивает жестокость операции, но и представляет доктора как почти бесчеловечное существо. Во время операции образ Филиппа Филипповича становится все более отвратительным и жутким: «Сипение вырывалось из его носа, зубы открылись до десен» [Там же]. Эта подробность дополнительно усиливает абсурдность и бесчеловечность хирургической сцены.
«Операция как метафора социальной трансформации» – еще одна важная метафора: пересадка гипофиза Шарика профессором Филиппом Филипповичем Преображенским может рассматриваться как метафора тотальной трансформации советского общества. Неудача операции намекает на потенциально катастрофические последствия чрезмерного вмешательства в природные и социальные процессы. Этот метафорический прием был новаторским для своего времени и прямо критиковал постреволюционные социальные эксперименты, искажающие человеческую природу. С помощью этой метафоры М.А. Булгаков не только критикует слепоту социальных преобразований, но и раскрывает сложные отношения между наукой и человеческой природой.
Наконец, контраст между сердцем собаки и сердцем человека глубже раскрывает тему повести. Противопоставляя животный инстинкт и человеческий разум, М.А. Бул-
гаков раскрывает скрытую дикость и жестокость человеческой природы и разрушает традиционное представление читателя о том, что «человеческая природа выше животной». По словам Филиппа Филипповича, «вы стоите на самой низшей ступени развития <...>, вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные» [2, с. 23]. Это описание не только показывает варварскую природу «новой человеческой единицы», созданной в результате эксперимента, но и намекает на потенциальную деградацию и потерю контроля над человеческой природой. Через сравнение повесть подвергает глубокой критике искажение человеческой природы революцией и научными экспериментами, а также раскрывает скрытую жестокость и дикость в человеческой природе.
Посредством языкового искажения М.А. Булгаков углубляет процесс восприятия читателем хирургической сцены, заставляя его глубоко прочувствовать холодность и бесчеловечность научных экспериментов посреди абсурда. Языковая стратегия остра-нения не только усиливает художественное напряжение текста, но и заставляет читателя пересмотреть границу между наукой и человеческой природой, тем самым достигая более глубокого эстетического опыта.
Остранение сюжета: переплетение абсурда и реальности
Переходя к анализу сюжета, можно отметить, что М.А. Булгаков в «Собачьем сердце» создает напряженный повествовательный мир, сочетая абсурд и реальность. Это остранение бросает вызов читательскому восприятию и в то же время глубоко раскрывает социальную реальность и дилемму человеческой природы с помощью прие- мов антилогической конструкции, слияния магической реальности и нелинейного повествования.
-
1. Абсурдность повествования о превращении собак и людей. Абсурдность центрального сюжета – превращение собаки в человека – проявляется в его антилогической конструкции обратной эволюции. Профессор Филипп Филиппович хирургическим путем пересаживает гипофиз бродячего пса Шарика в тело бездомного мужчины, пытаясь создать «новую человеческую единицу». Однако «эволюция» Шарика идет не в желаемом направлении, а наоборот, обнаруживает черты жестокости, жадности и морального банкротства. Эта обратная эволюционная траектория не только подрывает традиционную концепцию эволюции, но и раскрывает темную сторону человеческой природы через абсурдный сюжетный замысел.
-
2. Нелинейное повествование и повторяющиеся сцены. Писатель использует нелинейное повествование и повторяющиеся сцены для усиления эффекта остранения. Повествование разворачивается не в хронологическом порядке, а через временные разрывы и сюжетные коллажи, которые позволяют читателю по-новому воспринять сюжетную линию. Изображение трех операций проходит в разных фокусах повествования: первая операция разворачивается с точки зрения Шарика, вторая – с точки зрения Филиппа Филипповича, а третья – с точки зрения стороннего наблюдателя. Такое нелинейное повествование не только усложняет сюжетную линию, но и создает у читателя комплексное новое понимание операций благодаря различным повествовательным фокусам.
-
3. Критика реальности абсурдных сюжетов. Антиутопические повествования широко используются в литературе как инструмент для раскрытия противоречий реальности, в которой логика и мораль часто ставятся под сомнение. В гротескном реализме материально-телесное начало является началом глубоко положительным. И здесь эта стихия дана вовсе не в частной эгоистической форме и не в отрыве от остальных сфер жизни [1]. Используя абсурд в повести, М.А. Булгаков помещает реалистичные социальные и моральные проблемы в преувеличенный контекст, так что читатель чувствует глубокую критику в абсурде.
Абсурдность сюжета усиливается благодаря сочетанию научных экспериментов и элементов магического реализма. Операция Филиппа Филипповича, хотя и кажется научным прорывом, на самом деле приводит к искажению человеческой природы. Тело Шарика постепенно приближается к человечности, но его психика остается в состоянии собаки. Такое сопоставление науки и магии придает сюжету абсурдность, а также показывает, к каким непредвиденным последствиям могут привести научные эксперименты. «Искусство существует для того, чтобы вернуть ощущение жизни, чтобы почувствовать вещи, чтобы сделать камень каменным» [5, c. 5]. Абсурдное повествование М.А. Булгакова о превращении человека и собаки дает читателю новое восприятие реальности человеческой природы, вызывая глубокие размышления.
Использование повторяющихся сцен также усиливает эффект остранения. Повторение является важным средством литературной формы, оно через повторное акцентирование позволяет читателю глубже понять сюжет. Изменения в поведении Шарика на разных этапах показаны неоднократно, но это повторение не простая реплика, а изменение деталей, раскрывающее трансформацию психологического состояния. Во время блужданий зависимость Шарика от людей демонстрирует простые инстинкты выживания («У-у-у-у-у! О, гляньте на меня, я погибаю» [2, с. 9]). После экспериментов он начинает проявлять самостоятельность и неповиновение: он уже не просто вилял хвостом, чтобы получить кусок хлеба. После полного «очеловечивания» он начинает проявлять самостоятельность и сопротивление, его поведение кардинально меняется, его грубые высказывания в адрес Филиппа Филипповича и Зины раскрывает внутренние противоречия и «деградацию» («Отлезь, гнида!» [Там же, с. 51]). Эта повторяющаяся сцена не только обогащает сюжет за счет контраста деталей, но и углубляет диалектическую связь между «эволюцией» и «деградацией», усиливает эффект остранения. Как говорит Б.В. Томашевский, «повторение как бы подчеркивает эмоциональное волнение, создает эмоциональное ударение на повторяющихся словах» [4]. Многократные демонстрации Шариковым дикости животных инстинктов и частые акценты Филиппа Филипповича на этике научных экспериментов усиливают глубокие исследования повести о людях и животных, науке и морали, так что читатель постепенно осознает сложность и конфликтность этих тем благодаря повторению.
М.А. Булгаков доводит до крайности противопоставление научных экспериментов и общественной морали в повести, чтобы раскрыть глубокие нравственные дилеммы. Операция Филиппа Филипповича кажется прорывом в науке, но на самом деле она искажает природу человека. Превращая собаку в человека, М.А. Булгаков разрушает традиционные представления читателя о «человеческой природе» и заставляет переосмыслить природу нравственности. Эволюция Шарика полна иронии: он приобретает внешность и интеллект человека, но теряет простоту и преданность животного. Это остранение показывает, что мораль не врожденная, а результат социальной индоктри-нации. Предательство Шарика по отношению к своему профессору и нарушение им общественного порядка – это язвительная сатира на научную утопию и обнажение хрупкости социальной системы морали. Подлинный цивилизационный прогресс требует не только научно-технического развития, но и нравственного воспитания, культурного наследования. Трагедия Шарикова – неизбежный результат игнорирования этой истины. Через этот антиутопический сюжет М.А. Булгаков предупреждает нас о том, что научно-технический прогресс в отрыве от нравственных ограничений может привести к последствиям худшим, чем варварство.
Остранение нарративной структуры: многоперспективность и драматизация представления
-
1. Нарративная стратегия множественных перспектив. Используя в «Собачьем сердце» нарративную стратегию множественных перспектив, М.А. Булгаков нарушает однолинейную схему традиционного повествования и добивается остранения повествовательной структуры. Применение множественных перспектив не только обогащает многослойность текста, но и способствует многомерному пониманию читателем сюжета. В основе остранения лежит идея «затруднения формы, увеличения трудности и долготы восприятия» [5], именно благодаря сложности структуры повествования множественные перспективы заставляют читателя пересмотреть историю под разными углами, нарушая привычные когнитивные схемы.
-
2. Драматическая техника и нарративная напряженность. Действие остранения в повести усиливается благодаря драматическим приемам повествования. Драматизм проявляется не только в абсурдности сюжета, но и в сильном ощущении инсценировки текста через диалоги, декорации и модуляцию ритма повествования. Как отмечает Борис Эйхенбаум, драматизированное повествование может усилить выразительную силу текста за счет «визуальности сцены и непосредственности диалога», облегчая читателю вхождение в контекст [7].
Многоперспективные нарративы могут создавать «полифонию», в которой разные голоса в тексте ведут диалог друг с другом, тем самым разрушая авторитет единого повествования. Писатель ведет повествование через перспективы нескольких персонажей, таких как Шарик, Филипп Филиппович и доктор Борменталь, так что одно и то же событие интерпретируется по-разному. Например, точка зрения Шарика полна сарказма по отношению к людям и обвинения в социальной несправедливости, а точка зрения Филиппа Филипповича отражает скорее рационализм и самомнение ученого. Такая нарративная стратегия не только обогащает сюжет, но и раскрывает сложность характеров и двойственность общества через контраст и конфликт.
Кроме того, М.А. Булгаков дополнительно усиливает остранение повествования, чередуя точку зрения рассказчика и персонажей. Например, описывая процесс «эволюции» Шарика, рассказчик представляет события с объективной точки зрения от третьего лица, а внутренние изменения Шарика раскрывает через его субъективные ощущения. Такая смена точки зрения не только усложняет повествование, но и заставляет читателя корректировать свои когнитивные рамки в процессе чтения, тем самым испытывая когнитивное напряжение, вызванное остранением.
В «Собачьем сердце» М.А. Булгаков значительно усиливает драматический эффект текста благодаря точному управлению ритмом повествования. Например, при «эволюции» Шарика ритм повествования постепенно ускоряется от первоначального медленного нарастания и, наконец, достигает кульминации в сцене «предательства» Шарика. Это изменение темпа не является простым ускорением, через сжатие и растяжение времени эмоциональный опыт читателя тонко направляется. В процессе постепенного обретения Шариком человеческих качеств ускорение ритма повествования создает ощущение напряженности, а внезапная вспышка сцены «предательства» усиливает драматический конфликт за счет резкой смены ритма. Такое управление ритмом повествования не только делает сюжет более напряженным, но и, манипулируя чувством времени, позволяет читателям ощутить сильное эмоциональное воздействие в процессе чтения, тем самым углубляя понимание темы.
В заключение следует отметить, что повесть «Собачье сердце» демонстрирует высокий уровень использования приема остранения в своей нарративной технике, которая не только прорывается сквозь эстетические нормы традиционного реализма, но и глубоко раскрывает внутренние противоречия советского общества 1920-х годов в форме абсурда. Деформация языка, абсурдность сюжета и нарративная стратегия множественных перспектив в повести не только перенастраивают восприятие читателя, но и обнажают потерю контроля над властью и отчуждение человеческой природы за научным экспериментом. В литературной форме М.А. Булгаков преобразует абсурд социальной реальности в художественное выражение, одновременно критикуя слепое поклонение научности и размышляя о подавлении индивидуальных ценностей коллективизмом. Художественное новаторство и социальная критика делает повесть «Собачье сердце» классическим произведением, которое выходит за рамки своего времени, демонстрируя уникальную силу литературы в раскрытии социальных проблем и осмыслении трагедии человеческой природы.