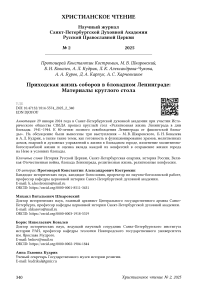Приходская жизнь соборов в блокадном Ленинграде: Материалы круглого стола
Автор: Протоиерей Константин Костромин, М.В. Шкаровский, Б.Н. Ковалев, А.Л. Кудрик, Л.К. Александрова-Чукова, А.А. Буров, Д.А. Карпук, А.С. Харчевников
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Приходская жизнь соборов в блокадном Ленинграде. Материалы круглого стола
Статья в выпуске: 2 (113), 2025 года.
Бесплатный доступ
29 января 2024 года в СанктПетербургской духовной академии при участии Исторического общества СПбДА прошел круглый стол «Религиозная жизнь Ленинграда в дни блокады. 1941–1944. К 80‑летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». На обсуждение были вынесены три выступления — М. В. Шкаровского, Б. Н. Ковалева и А. Л. Кудрик, а также такие темы, как готовность и функционирование храмов, молитвенных домов, епархий и духовных управлений к жизни в блокадном городе, изменение молитвеннобогослужебной жизни и оценка вклада каждой из конфессий в сохранение жизни города на Неве в условиях блокады.
История Русской Церкви, Санкт- Петербургская епархия, история России, Великая Отечественная война, блокада Ленинграда, религиозная жизнь, религиозные конфессии
Короткий адрес: https://sciup.org/140309622
IDR: 140309622 | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_2_340
Текст научной статьи Приходская жизнь соборов в блокадном Ленинграде: Материалы круглого стола
Anna Lvovna Kudrik
Academic Secretary of the State Museum of the History of Religion.
Lidiya Konstantinovna Alexandrova-Chukova
Candidate of Chemical Sciences, great-granddaughter and biographer of Metropolitan Gregory (Chukov), independent researcher of the recent history of the Russian Orthodox Church.
Alexander Anatolyevich Burov
Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher at the State Museum of the History of Religion.
Dmitriy Andreevich Karpuk
Candidate of Theology, Head of the Department of Postgraduate Studies, Associate Professor at the St. Petersburg Theological Academy; Head of the Department of Church History and General Humanitarian Disciplines at the Pskov-Pechersk Theological Seminary.
Alexey Sergeevich Kharchevnikov
Master of Pedagogy, Postgraduate Student at the St. Petersburg Theological Academy.
Протоиерей Константин Костромин: Дорогие коллеги, мы собрались обсудить некоторые актуальные вопросы, связанные с религиозной жизнью в блокадном Ленинграде. Кто-нибудь хочет высказаться?
Дмитрий Андреевич Карпук: Михаил Витальевич Шкаровский считает, что если и не сразу, то в скором времени после начала военных действий Русская Православная Церковь начинает собирать пожертвования на помощь фронту. Не выглядит ли это как некий откуп: «Мы даем помощь властям страны, а власти пусть прекратят гонения»? (см.: [Шкаровский, 2005, 18]). Борис Николаевич Ковалев в этом отношении показывает как раз другую сторону. Власть как бы говорит: «Мы снимем фильм, в котором женщина будет осенять крестным знамением красноармейцев, а вы, Церковь, занимайтесь патриотической деятельностью вместе с нами, поддерживайте нас в этой тяжелой борьбе» (см.: [Ковалев, 2023, 304]). Важно понимать, что в 1941–1942 гг., в общем-то, еще не было понятно, чем кончится война. Поэтому у меня вопрос: были ли заметны эти многие тысячи и даже миллионы рублей пожертвований на фоне пожертвований других институций, не религиозных — учебных заведений, заводов и т. д.? Был ли вклад Русской Церкви действительно значительным, или на фоне остальных эти суммы выглядели скромно?
Михаил Витальевич Шкаровский: Это были достаточно большие суммы. Всего за годы войны Русская Православная Церковь внесла на оборону около 300 миллионов рублей. Примерно за 10 миллионов можно было около двух танковых полков построить. Конечно, почти все советские люди вносили пожертвования, но суммы, собиравшиеся другими организациями, в общем-то были сопоставимы, нельзя сказать, что Церковь внесла небольшую часть этих пожертвований.
Александр Анатольевич Буров: Для сравнения масштабов помощи: много это или мало — танковая колонна и эскадрилья. Если говорить не об абсолютных цифрах, а принимать во внимание состояние Церкви, когда у нас в городе из 500 храмов осталось всего 10, то это, конечно, невероятно большая сумма. В абсолютных цифрах это, конечно, скромно. Для сравнения: помню конференцию, приуроченную к очередному юбилею блокады, где выступали представители разных религиозных общин. Председатель еврейской общины Петербурга Марк Давидович Грубарг напомнил, что еврейский антифашистский комитет собирал средства в Соединенных Штатах, на которые было приобретено 1000 самолетов и 500 танков (см.: [Еврейский антифашистский комитет, 1996, 33]), что составило примерно треть государственного бюджета. Надо понимать, что пожертвования, сделанные в различных исторических обстоятельствах, это абсолютно разные весовые категории, иногда они совершенно несопоставимы.
Прот. К. Костромин: Насколько я понимаю, пожертвования собирали в течение всей войны. Получается, кто-то расставался со своими накоплениями сразу, а кто-то передавал их через некоторое время. То есть можно проследить динамику сбора пожертвований? Кроме того, в Ленинграде работал и черный рынок. В частности, большую долю в нем составляла продажа антиквариата. Правильно ли я понимаю, что какие-то люди и храмы имели возможность в блокадных условиях продавать часть, например, утвари, и эти деньги могли жертвовать в фонд обороны? Есть ли такие документы, или это только фантазия?
М. В. Шкаровский: Это, возможно, было, но конкретных документов не попадалось. Меня удивило, что среди пожертвований, которые вносили верующие, были практически всегда денежные средства, а вот драгоценности — очень мало. Это, вероятно, довод к Вашему утверждению, что ценности продавали за деньги, потому что случаи пожертвований драгоценностями были единичными.
Анна Львовна Кудрик: По поводу драгоценностей: на этих рынках (по тем рассказам, которые я слышала) купить что-либо за деньги было практически невозможно. То есть только обмен. Например, старинная икона в серебряном окладе «Чудо святого Георгия» стоила два кусочка сахара. То есть сколько церковной утвари нужно продать, чтобы какие-нибудь пожертвования внести?
Прот. К. Костромин: Торговали и за рубли (см.: [Вишневский, 2002, 58]). Вопрос: сколько эти два кусочка сахара стоили в рублях? Это — стоимость денег в условиях блокады и, собственно говоря, возможность обменять эту же икону не на два кусочка сахара, а на сколько-то сотен или тысяч рублей. Вопрос в том, что два кусочка сахара — это то, что вы съедите с семьей, а деньги, которые можно получить, можно отдать в фонд обороны. То есть это разное целеполагание.
Борис Николаевич Ковалёв: Все-таки нужно понимать степень дифференцированности черного рынка тогда. Ну, например, если бы вы предложили серебряные часы, вам предложили бы гораздо больше. Если речь идет о неких ювелирных эргономичных украшениях, они стоили тогда гораздо больше. Давайте вспомним произведение В. А. Солоухина «Черные доски» [Солоухин, 1972]: вообще отношение к иконам, даже старым, благодаря соответствующей политике атеизации у значительной части населения было наплевательским: куда важнее была не икона, а серебряный оклад.
Д. А. Карпук: Есть еще один вопрос. Михаил Витальевич, Вы неоднократно упоминали в своих выступлениях и работах прот. Павла Тарасова. Кто-то занимался изучением его жизни специально? Понятно, что он в данном случае выступает как некий антигерой. Вы говорили, что в десятках архивных дел Вам попадалась информация о том, что о. Павел давал показания на разных людей. Не было ли попыток собрать воедино эти сведения и представить образ этого священника-доносителя (см.: [Шкаров-ский, 2022, 33, 398])? В конце концов, есть и другие такие фигуры, например А. Осипов (см.: [Фирсов, 2004])…
М. В. Шкаровский: Конечно, о. Павел Тарасов — по-своему очень интересная личность. Он занимал крупные административные посты, был секретарем митр. Алексия (Симанского) в годы Великой Отечественной войны, но специально им никто не занимался, к сожалению. Следует сказать, что вскоре после окончания войны ленинградский митрополит Григорий (Чуков) отстранил его не только от административных постов епархии, понимая сущность этого человека, но и от настоятельства в крупных храмах, и даже пытался вообще удалить его из епархии, так что он временно даже переводился в Московскую епархию. Лично меня такие фигуры не привлекают.
Лидия Константиновна Александрова-Чукова: Можно вспомнить еще прот. Николая Ломакина. В ноябре 1945 г. он был поставлен заведующим Богословско-пастырскими курсами, но полностью манкировал своими обязанностями, поскольку собирался на Нюрнбергский процесс. К сожалению, владыка Григорий оставил в воспоминаниях о нем образ не совсем лучезарный (см.: [Шкаровский, 2022, 35–36, 381; Александрова-Чукова, Галкин, 2021]).
Б. Н. Ковалёв: Маленькая реплика. Тут прозвучала фамилия прот. Ломакина. Да, действительно очень сложная фигура, тем более для такого публичного его восприятия. Это человек, который представлял Русскую Православную Церковь на Нюрнбергском процессе. Более того, не только на Нюрнбергском процессе, но и на процессе над немецкими военными преступниками в Новгороде. И, следовательно, мы понимаем, что да, конечно, для государства это был человек более чем проверенный, пользовавшийся определенным доверием, но согласитесь, насколько заметным было воздействие на, скажем так, обыкновенного человека, на русского, на православного, и даже на зарубежную общественность, когда на таких, я бы сказал, глобальных мероприятиях слово правды шло именно от представителя Русской Православной Церкви. Это немаловажно.
Алексей Сергеевич Харчевников: Проблема еще в том, что биографии священнослужителей блокадного города на самом деле не изучены. Часто неизвестны даже даты рождения и смерти. Об отдельных личностях, как о. Николай Ломакин, говорится довольно часто и много, но остальные, в общем-то, забыты. Что касается о. Павла Тарасова: он после войны, с 1950 по 1952 г., служил настоятелем в храме Иова Многострадального, и там были скандал за скандалом, связанные с ним. И потом, во 2-й половине 1960-х гг., он снова был настоятелем (1966–1971) (см.: [Харчевников, 2023, 144]).
Михаил Витальевич говорит, что митр. Григорий (Чуков) пытался его «задвинуть», понимая, что он человек ненадежный, но на деле он пережил не одного ленинградского митрополита. В дневнике митр. Григория есть запись о том, как он в 1952 г. на Пасху написал письмо патр. Алексию (Симанскому), в котором пожаловался, что о. Павел не только не пришел на общий пасхальный прием, но и устроил в храме скандал, что от имени двадцатки была отправлена поздравительная телеграмма предыдущему настоятелю (см.: [Александрова-Чукова, 2006, 117]). Тогда с настоятельства его убрали, потому что у храма св. Иова Многострадального за два года его настоятельства появился долг в 130 000 руб.
М. В. Шкаровский: Если вернуться к теме пожертвований на нужды фронта, был такой замечательный документальный фильм, снятый у нас в Ленинграде, который так и назывался: «Сбор ленинградскими верующими средств на танковую колонну имени Димитрия Донского и эскадрилью имени Александра Невского» (см.: [Рашитова, 2008, 52]). Есть очень интересные воспоминания Н. А. Сотникова, который снимал этот фильм в Богоявленском соборе, у него консультантом был митр. Алексий (Си-манский). Сотников вспоминал, что когда ему было дано поручение (он не по своей инициативе снимал фильм), ему дали понять, что приказ с самого верху, то есть, можно думать, лично от И. Сталина. Городские власти помогали в подготовке фильма. Также ему намекнули, что он будет показан на Западе в пропагандистских целях. Фильм снимался не один день, режиссер очень удивился тому, как много людей пришло сдавать пожертвования (см.: [Сотников, 2017]).
Д. А. Карпук: Кстати, о фильмах. Разрешите также задать вопрос Борису Николаевичу. Начиная с 1941 г. в кинематографе появляются некоторые религиозные элементы. Были ли в этих или других каких-то фильмах сюжеты, в которых религиозная проблематика затрагивалась, но в отрицательном смысле, или отрицательное представление о Церкви исчезает из кадра в это время? Можно даже поставить вопрос шире: насколько антирелигиозная пропаганда вообще была актуальна в годы войны?
Б. Н. Ковалёв: Определенный религиозный смысл имел сам отечественный характер войны, это понимали даже фашисты (см.: [Ковалев, 2004, 308]). Можно цитировать Анну Ахматову, ее поэзия даже в 1930–1950-х по сути религиозна (см. об этом: [Фоменко, 2000, 16-21]). Если в начале войны, в 1941-1942гг., еще хорошо виден определенный цинизм со стороны государства, потом прагматизм, то в 1942 г., даже если смотреть по ленинградским документам, появляется определенная растерянность со стороны властей. Многие чиновники не понимают: если столько лет шло гонение на Церковь, почему эту войну воспринимают действительно как отечественную? И все это, в конечном счете, подготовило небезызвестную встречу И. В. Сталина с тремя митрополитами.
А. А. Буров: Действительно, ситуация 1942–1943 гг. такова: когда власть как будто понимает, что невозможно вдохновить народ марксистскими заклинаниями, что это не срабатывает, создается достаточно широкий «фронт»: ослабевает цензура, привлекается в качестве этакой музы блокадного Ленинграда в общем-то опальная, пережившая заключение, потерявшая в заключении ребенка и возможность рожать поэтесса Ольга Берггольц, Анна Ахматова тоже извлекается как бы из забвения, Илья Эренбург, не самый лояльный писатель, тоже. И в этой линии вполне логично привлекается еще и Церковь, и вообще религиозные организации. Да, действительно, заявления о «священной войне» были совершенно официальные, они публиковались в центральной прессе, но и заявления представителей других религиозных общин также. Распускается Союз воинствующих безбожников (см. об этом: [Покровская, 2007]). И, что очень важно вспомнить мне как сотруднику Музея истории религии: ликвидируется находившаяся в составе этого союза целая система антирелигиозных музеев. Да, у нас в городе был Музей истории религии и был антирелигиозный музей в Исаакиевском соборе. Добавку «и атеизма» к названию Музей истории религии получил сравнительно поздно: в самом начале правления Н. С. Хрущева, в 1954 г., когда не осталось системы антирелигиозных музеев. И последний антирелигиозный музей, который находился в бывшем Страстном монастыре в Москве, был закрыт в 1947 г. (см.: [Шахнович, Чумакова, 2014, 59, 83]).
Б. Н. Ковалёв: Если вернуться к кинематографу, то религиозная проблематика проходит в фильмах скорее намеками. Например, женщина убивает, отравляет немцев — в одном из боевых киносборников, — и мы видим, что у нее в избе есть иконы. Их видно на заднем плане (Боевой киносборник № 6. Мосфильм, 1941. Новелла «Пир в Жирмунке»). Скорее, разочарование в пролетарском интернационализме заставило государство больше смотреть на национальный патриотизм, а далее уже мы проводим соответствующую логическую цепочку.
Моя студентка создала фильм «Блокадный дневник Лёши Матвеева»: 14–15-летний ленинградский подросток воцерковился в реалиях блокады (см.: [Тэммо, 2020]). Я ее специально спрашивал, была ли его семья религиозной, она сказала, что практически нет. Однако мальчик в условиях голода начинает молиться, причем молится и так, как слышал, и своими словами.
Прот. К. Костромин: Кинематограф — важный элемент «знаковой системы» в идеологии. Но все же политика в отношении религии, конечно же, не поменялась принципиально, а вот ситуация требовала другой «знаковой системы», к примеру, легализованного крестного знамения. Это мелочь, но, конечно, мелочь важная. А вот насколько можно говорить (и могут ли быть выявлены какие-то документы, или они известны) о том, что конфессии Ленинграда каким-то образом готовились к блокадному состоянию? В общем было понятно, что после нападения фашистов на СССР один из главных ударов будет на Ленинград. Во-вторых, само по себе нападение фашистов на Советский Союз было в общественном мнении очень хорошо подготовлено. В качестве ярких примеров приведу, не считая фильма «Александр Невский» (см.: [Кривошеев, Соколов, 2012]), в научной или научно-популярной среде несколько книг 1939-1940 гг. о нападениях немцев на Прибалтику в XIII в. и, соответственно, об отражении немецкой агрессии там русскими дружинами. Я имею в виду книги академика М. Н. Тихомирова и тогда еще молодых историков В. Т. Пашуто и И. П. Шасколь-ского [Шаскольский, 1940; Тихомиров, 1941 (впервые издана как журнальная статья в 1939-м); Пашуто, 1939; Пашуто, 1940]. Для меня одним из таких откровений была в свое время книжка «Приключения капитана Врунгеля» А. Некрасова [Некрасов, 1939], потому что это почти идеальный учебник по геополитике на 1939 г. Более точного описания расстановки сил в мире, такой наглядной, к которой мог прикоснуться любой — от школьника до взрослого, в общем, нет. Вопрос: насколько конфессии Ленинграда, которые в целом, как я понимаю, демонстрировали в той или иной степени лояльность советскому государству, вели подготовку церквей, храмов к тяжелому будущему? Или подготовки никакой не было и документы не дают возможности говорить об этом?
М. В. Шкаровский: Среди сохранившихся документов я не замечал упоминаний о какой-то особой подготовке приходов к началу войны или какой-то особой пропаганды по этому поводу, каких-то мероприятий по оборудованию зданий храмов. Возможно, это в некоторой степени присутствовало, потому что к началу войны оказалось достаточно большое количество денежных сумм накоплено в ленинградских храмах, иногда очень значительных (например, в Князь-Владимирском соборе было накоплено 700 000 руб. (см.: [Шкаровский, 2018]), это всё-таки большая сумма для того времени), и почти все сразу они были пожертвованы на устройство военного госпиталя, хотели свой собственный церковный госпиталь устроить, им не разрешили… То есть какие-то деньги они собирали, это было подготовкой.
Б. Н. Ковалёв: Мне все-таки кажется, что скорее нет, чем да. Ведь была теория победы малой кровью, могучим ударом, что воевать будем на чужой территории. Плюс искренняя вера И. Сталина в то, что если Германия объявит нам войну, она не будет воевать, как в Первой мировой войне, на две линии фронта, пока не будет завершена операция «Морской лев» — покорение Англии. Мне кажется, определенный элемент растерянности у всех имел место быть, хотя бы если посмотреть достаточно специфический источник — воспоминания небезызвестного драматурга, публициста В. В. Вишневского [Вишневский, 2002, 11]. Он описывает, как сразу же после сообщений о войне люди старшего поколения бросились скупать все что можно и нельзя. Не исключено, что кто-то из околоцерковных людей помнил печальные события Первой мировой и Гражданской войн. Некий, я бы сказал, нерелигиозный фактор стремления сделать себе некую подушку безопасности был, потому что Вишневский писал про очереди, про панику пренебрежительно применительно именно к этим людям. Вы знаете, я не думаю, что тогда священники рискнули что-либо скупать. Это могло выйти им боком.
А. Л. Кудрик: Насчет возможности делать запасы. Я как дочь, внучка (и так далее) блокадников знаю, что даже в первые дни в магазинах можно было что-то купить впрок, но люди боялись, потому что можно было так «влететь» за панику, что запасы просто бы не понадобились. Из-за этого тоже многие люди потом потеряли близких или умерли сами. Как мне кажется, если говорить о единственном католическом приходе и о какой-то подготовке — не к блокаде, а к возможной войне, то очень остро стоял вопрос о том, чтобы сохранить храмы, которые еще были открыты (а это были Москва и Ленинград), чтобы любой ценой оставить хотя бы одного священника, чтобы люди не остались перед лицом возможной смерти без таинств. Тайные богослужения в Ленинграде совершал свящ. Павел Хомич, который, естественно, представился прихожанам, и поэтому моментально все стало известно в НКВД (см.: [Шкаровский, Чере-пенина, Шикер, 1998, 36-37, 194-199]). Священник — не тот человек, который вообще ловко что-то скрывает, по понятным причинам. Возможно, те крошечные запасы, те гостии, которые делились на двадцать человек, когда служил о. П. Хомич, те капли вина из изюма, которые сохранялись в годы блокады, могли быть из запасов Мишеля Флорана. Это было то, что можно было впрок сделать и хранить.
М. В. Шкаровский: Хотел бы добавить, что накопленные запасы были небольшими. Их хватило до декабря 1941 г. У нас в архиве есть письма всех фактически оставшихся общин. Все они писали в конце декабря — начале января, что запасы у них кончились. Приобрести на рынке вино и хлеб для богослужения было невозможно. Они просили оказать им помощь. Прошлых запасов хватило примерно на четыре месяца. Им стали выделять необходимое [Шкаровский, 2005, 27, 112–115].
А. С. Харчевников: Добавлю к сказанному. В начале ноября 1941 г. двадцатка храма св. Иова Многострадального обращалась в органы с просьбой содействовать в получении муки и вина. Уточнялось, что еще 11 сентября у просфорни разломали сарай и последние запасы муки были изъяты милицией. Того, что осталось, хватит на неделю-полторы. Есть свидетельства, что люди сами приносили остававшиеся запасы муки, чтобы можно было изготовить просфоры (см.: [Харчевников, 2020]). А уже в конце декабря — начале января, как сказал Михаил Витальевич, начали выдавать помощь.
Прот. К. Костромин: Дорогие коллеги, с вашего позволения подведу краткий итог. Во-первых, хочу всех поблагодарить за участие в круглом столе и, конечно, должен сказать, что положение религии в СССР теперь уже изучено значительно лучше, чем 30 лет назад, однако подводить итоги еще рано. Подводить итоги в истории, в исторической науке в принципе невозможно: они всегда движутся вперед, умножая знание, передавая память и отвечая на вопросы, которые видятся актуальными именно в данный момент. Поэтому и нам важно, чтобы память о событиях блокады, Великой Отечественной войны и церковной жизни в ту эпоху передавалась далее, причем память как личная, так и накопленная в ходе научного поиска, а также личные ощущения, переживания, пускай и иные, чем 80 лет назад, продолжали жить в сердцах людей.
Можно в связи с празднуемым юбилеем Победы в Великой Отечественной войне вспомнить, как 10 мая 1945 г. управляющий Ленинградской епархией митр. Григорий (Чуков), потерявший в блокадном городе троих детей, записал у себя в дневнике: «Вчера в среду 9.V служил в 1 ч. дня торжественный молебен по случаю капитуляции немцев, говорил слово (в Никольском соборе). Молебен совершил по чину молебна Филаретовского об избавлении от нашествия галлов. На всех произвело большое впечатление. При возглашении „вечной памяти“ многие рыдали…» [Александрова-Чукова, 2006, 109]. Дай Бог, чтобы эти страшные и славные времена и не забывались, и не повторялись.