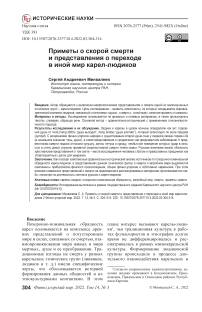Приметы о скорой смерти и представления о переходе в иной мир карел-людиков
Автор: Сергей Андреевич Минвалеев
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 3 т.14, 2022 года.
Бесплатный доступ
Введение. Автор обращается к религиозно-мифологическим представлениям о смерти одной из малоизученных этнических групп – карел-людиков. Цель исследования – выявить компоненты, из которых складывался мировоззренческий комплекс людиков, связанный с понятиями «душа», «смерть», «иной мир», включая приметы и символы. Материалы и методы. Исследование основывается на архивных и полевых материалах, а также фольклорных текстах, словарях, образцах речи. Основной метод – сравнительно-исторический с применением этнолингвистического подхода. Результаты исследования и их обсуждение. Людики и карелы в целом кончину определяли как акт отделения души от тела (heng lähtöu ‘душа выходит’, heng lendau ‘душа улетает’), который происходит по воле предков (syndyd). С воззрениями финно-угорских народов о существовании второй души-тени у людиков связан термин iče (в начальном значении ‘тень, душа’), а также представление о «родимчике» как предсмертном заболевании. К пред- вестникам смерти людики относили кукушку, дятла, петуха и курицу, необычное поведение которых (удар в окно, стук в стену дома) служило приметой скоропостижной смерти члена семьи. Русским влиянием можно объяснить христианские представления о том свете – месте воссоединения человека с Богом и православных праздниках как «благоприятных» датах для умирания. Заключение . Как показал комплексный сравнительно-исторический анализ источников по похоронно-поминальной обрядности карел-людиков, в представлениях данной этнической группы о смерти и загробном мире выделяются компоненты прибалтийско-финского происхождения, общие финно-угорские и собственно карельские. При этом влияние славянских представлений о смерти на людиковские в рассматриваемых материалах прослеживается слабо, несмотря на длительность контакта русских и карел-людиков.
Карелы-людики, похоронно-поминальная обрядность, загробный мир, смерть, приметы смерти
Короткий адрес: https://sciup.org/147237807
IDR: 147237807 | УДК: 393 | DOI: 10.15507/2076-2577.014.2022.03.304-314
Текст научной статьи Приметы о скорой смерти и представления о переходе в иной мир карел-людиков
Похоронно-поминальная обрядность карел основывается на комплексе древних представлений о потустороннем мире и силах, связанных со смертью, взаимопроникновении мира живых и мира мертвых, душе и ее преображении. Традиционные взгляды на смерть у разных карельских этнических групп (ливвиков, людиков и т. д.) имели специфические черты, что обосновывается историей формирования данных общностей и их этнокультурными контактами. В этом плане интерес вызывают карелы-люди-ки1, чья традиционная культура в работах фольклористов и этнографов долгое время не дифференцировалась и рассматривалась в рамках южнокарельской культуры. Формирование людиковской группы происходило в процессе длительного взаимодействия карельских и вепсских племен в XI–XIV вв. Первые контакты предков людиков со славянами относятся к XIII в., а в XVIII в. на севернолюдиковской территории стала развиваться металлургическая промышленность, в результате чего русское население начало стягиваться в ареал проживания карел-людиков, активно оказывая влияние на их быт и культуру. По сведениям финляндских исследователей, количество носителей людиковского наречия к 2020 г. оценивалось в 150 чел. и оно продолжает сокращаться из года в год [21, 124]. Многие элементы обрядов и верований карел-людиков до сих пор мало изучены, поэтому исследования такого плана являются актуальными.
В настоящей статье рассматривается мировоззренческий комплекс карел-лю-диков, связанный с понятиями «душа», «смерть» и «иной мир», а также с приметами, предзнаменующими скорое наступление смерти. Цель исследования – определить этнические компоненты, из которых складывались религиозно-мифологические представления людиков о смерти и переходе в иной мир.
Обзор литературы
Исследование базируется на комплексе источников, в который вошли как опубликованные работы по рассматриваемой теме, так и архивные и полевые материалы. Из литературных источников непосредственно людиковской похоронно-поминальной обрядности касаются заметка краеведа Н. Лескова о погребальных ритуалах святозерских людиков2 и статья А. П. Конкка, сфокусированная на описании людиковских кладбищ и их типологизации [7]. Помимо этого имеются общие труды по семейным обрядам карел конца XIX – начала XX в. (работы Ю. Ю. Сурхаско [17], У. С. Конкка [9], А. П. Конкка [8] и др.), но в них, как правило, людиковские похоронные обряды не выделяются из общекарельского массива.
Сравнительным материалом послужили работы по похоронно-поминальной обрядности других локальных групп ка-рел3 [11; 13] и соседних народов: вепсов4, русских (и шире – славян) [1; 4; 5; 12; 19], финно-угорских народов в целом5 [10; 14; 16; 18].
Материалы и методы
В качестве основных материалов были использованы полевые отчеты и рукописи российских и финляндских исследователей, хранящиеся в Научном архиве Карельского научного центра РАН (НА КарНЦ) и Фольклорном архиве Финского литературного общества (SKS), а также полевые материалы различных собирателей, в том числе самого автора. Последние охватывают почти все крупные населенные пункты проживания карел-людиков: села Михайловское (Олонецкий район), Святозеро (Пряжинский район), Кончезеро, Спасская Губа (Кондопожский район). Аудиозаписи экспедиций хранятся в Фонограммархиве Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН (ФА ИЯЛИ)6.
Ключевым методом работы стало сравнительно-историческое описание изучаемых явлений с опорой на указанные выше источники. Основная стратегия сравнительно-исторического анализа обращена на выявление сходных и отличительных черт некрокультуры карел-людиков и соседних народов (русских, вепсов) и других этнических групп карел Республики Карелия в определенный период, датируемый концом XIX–XX в. В исследовании применялся также этнолингвистический подход, заключавшийся в определении соотношений и связей изучаемых явлений в прибалтийско-финских языках, в частности в карельских наречиях. Для этого в качестве дополнительных источников были привле-
(^jl ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ чены данные диалектных и этимологических словарей7, сборников фольклорных текстов8 и образцов людиковской речи финляндского лингвиста П. Виртаранта9.
Результаты исследования и их обсуждение
Представления карел-людиков о душе, смерти и загробном мире
В карельских, в том числе людиков-ских, причитаниях кончина понимается как воля предков ( syndyd ), которые призвали к себе человека [9, 36 ]. В них отражаются представления народа о том, что после смерти душу покойного встречают прародители (как и в свадебных причитаниях, к ним применяется эпитет «белые»): “ Vastattihgo valgedad syndyd? ” «Встретили ли тебя белые предки?»10.
Смерть у людиков обозначалась двумя синонимичными терминами прибалтийско-финского происхождения: surm и kuolend (ср.: соб. кар. šurma, ливв. surmu, вепс., эст. surm, вод., фин. surma; соб. кар. kuoloma, ливв. kuolendu, вепс. kolend, фин. kuolema)11. Кончина воспринималась народом как акт отделения души от тела, а сам момент смерти обозначался следующими выражениями: heng lähtöu ‘душа выходит’; hengi lähtʼi iäreh ristikaazas ‘душа покинула человека’; heng lendau ‘душа улетает’; piaž iäre hengi ‘оставила душа’12. Аналогично исход души именовали финны и собственно карелы – hengenlähtö (‘букв.: уход души’) [9, 38], а также вепсы – heng l’äks’ (‘душа ушла’)13. Смерть людики констатировали словами henged eule ‘нет души’, а местонахождением души (hengen koht) считали подложечную область14. Это общекарельское представление о нахождении души и ее отделении от тела находит подтверждение в словах жителя карельского Сегозерья, побывавшего в переходном состоянии между жизнью и смертью в результате черепно-мозговой травмы: «нечто поднимающееся от солнечного сплетения к горлу» [13, 253].
Попадание в загробный мир (кар., фин. Manala, Tuonela) карелы и финны, как и многие другие народы, связывали с преодолением душой умершего различных препятствий, стоящих на его пути [8, 195– 196; 10, 23]. В некоторых людиковских поселениях бытовала традиция собирать и хранить выпавшие волосы, служившие после смерти человека наполнителем подушки для гроба15. По общекарельским представлениям, волосы и ногти, которые собирались при жизни и помещались после смерти в гроб, должны были помочь душе умершего совершить тяжелый путь в загробный мир, преодолеть крутые горы и перебраться через глубокие ущелья [8, 195]. В южных районах Карелии известны рассказы о прохождении душой каменной (или стеклянной) горы, в Беломорской Карелии – о переходе водной или огненной преграды [7, 229–230]. В сообщении уроженца севернолюдиковской деревни Галлезеро (Кондопожский район) Степана Годарева река потустороннего мира была именно огненной16 – этот нарратив свойствен мифологическим представлениям собственно карел о царстве мертвых. Специфический карельский термин, обозначающий загробный мир у людиков, в рассматриваемых материалах не удалось обнаружить. Жите- ли д. Лижмы (Пряжинский район) говорят про умершего, что он находится «с Богом» (Jumalot’ kera)17, – это можно трактовать как влияние христианских воззрений.
В традиционном мировоззрении финно-угорских народов были распространены представления о двух и более душах у человека: у коми орт ‘душа-тень, двойник человека’ и лов ‘дыхание, жизнь’; у удмуртов урт ‘душа-двойник’ и лул ‘душа-дыхание’; у марийцев ӧрт ‘бестелесный двойник человека’, чон ‘жизненная сила’, шӱлыш ‘дыхание, с которым при последнем выдохе выходила и душа чон’ и т. д. [10, 6; 16, 125]18. У людиков зафиксировано только одно название для обозначения души, с последним вздохом покидающей тело человека, – heng. Аналогичное название встречается у других прибалтийско-финских народов: фин. henki, соб. кар. henki, ливв. hengi, вепс. heng, эст. heng19. В финском языке помимо своего основного значения ‘дух, душа’ оно имеет еще и значение ‘воздух’ в выражении haukkoa henkeä ‘глотать воздух’20. Дело в том, что душа, heng, связана с дыханием человека: слова heng ‘душа’ и hengittada ‘дышать’ являются однокоренными как в людиков-ском наречии, так и в других прибалтийско-финских языках21. У людиков был распространен обычай ставить у изголовья умирающего сосуд с водой – своеобразное водное пространство, через которое, по народным верованиям, осуществлялись переход души и ее очищение22. Похожие действия были распространены среди остальных карел, а также среди финноугорских, тюркских и восточнославянских народов [12, 358; 14, 484; 18, 207]23. Душа, выйдя из тела, должна была ополоснуть- ся в «холодной водушке»; при этом, как утверждали святозерские людики, поверхность воды чуть колыхалась24.
Карелы верили в возможность прихода покойника в мир живых, но, по народным убеждениям, это был уже не прежний живой человек, а часть враждебного загробного мира, воплощенная во второй подвижной душе-тени [8, 197 ]. В финноугорской концепции множественности душ были развиты верования в существование души-тени, которая могла покидать тело человека во время сна, представлять самого человека или его «эго» и возвращаться к живым после смерти в виде призрака. У хантов эта душа называлась is , у мордвы – es , у саамов – (j)ies , у финнов – itse 25. Данные наименования второй души скорее всего имеют общее прафинно-угор-ское происхождение. Например, лингвист А. А. Волкова доказала, что эрзя-мордовское местоимение es’ грамматикализи-ровано из допермского *ič’e , означавшее ‘тень, дух, душа’ [3, 547 ].
В настоящее время в финском, карельском и вепсском языках местоимение itse / iče означает ‘сам, сама, само’26. В вепсском языке iče входит составной частью в наименования заболеваний ichiin’e ‘эпилепсия’ и ičeze pahuz’ ‘родимчик’, сопровождающихся потерей сознания, самоконтроля, что И. Ю. Винокурова рассматривает как след былых представлений финно-угорского происхождения о душе-тени iče 27 . Возможно, отголосок данных воззрений сохранился и у жителей обрусевшего к XX в. села Шуя (Прионежский район), которые полагали, что у каждого человека перед смертью «случается родимчик28»29.
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Приметы, связанные со смертью и душой человека
С представлениями о душе и ее воплощениях связаны и разнообразные приметы, предсказывающие смерть человека. Многие из них касаются необычного поведения птиц. Карелы, как и соседние вепсы и русские, считали, что любая птица, которая ударилась в окно, постучала в него или в стену дома, являлась вестником смерти для кого-либо из членов семьи30 [12, 424 ]31. Эти приметы до сих пор бытуют у людиков повсеместно32.
В плачах народов Европейского Севера, в частности карельских, отразилось древнее мировоззрение, согласно которому душа умершего воплощается в образах летающих представителей фауны: птицы (воробья, кукушки, утки; у люди-ков – ласточки, чайки) или бабочки либо в совмещенном образе «птички-бабочки» (люд. liipoi-linduine )33 [8, 197 ]34. Дело в том, что карелы, как и вепсы, бабочку относили к классу птиц35. Этот образ встречается в людиковских похоронных плачах, в просьбе к умершему «прилететь хоть птичкой-бабочкой», чтобы навестить своих родственников, развеселить, приласкать или успокоить горюющих36.
Карелы-людики со смертью связывали поведение таких птиц, как кукушка, дятел, петух и курица. Плохим предзнаменованием было кукование кукушки около дома. Единичные сообщения из Михайловского свидетельствуют о том, что поверья о кукушке имеют позитивный характер: «В одно время говорили, что хорошее сообща- ет, в другое время стали уже говорить, что kägöi если kukkuu37 около дома – значит, опять будет что-то связано со смертью»38; «Кукушка кукует, если ты на улице, в первый раз кукует, то говорят: очень хорошо. А когда в доме услышишь, то это уже похуже»39. По мнению И. Ю. Винокуровой, в вепсской традиции кукушка – предсказательница, причем в основном плохих событий: неурожая, бед, болезней, смерти, пожара, но в то же время богатства и бедности, денег и их отсутствия40. В карельской эпической традиции и в эпосе «Калевала» распространен более жизнеутверждающий символизм кукушки – связь с солнцем, образ предвестницы весны и лета, богатства [2, 257]. Возможно, в людиковских сообщениях отразилось переплетение вепсских (или славянских [5, 705–706]) и карельских традиций. У многих народов по крику кукушки проводились гадания о числе оставшихся лет жизни. У михайловских людиков обнаружена характерная для карел связь кукушки с солнцем – символом жизни: если кукушка кукует со стороны восхода солнца, то проживешь еще долго, а если с захода, то оставшийся срок жизни будет небольшим41.
Дурным предзнаменованием считалось также, если дятел стучал в стену дома: pokoinikaks om d’atel ‘дятел к покойнику’42. Такая примета является универсальной, о чем свидетельствует ее география: сходные представления были распространены у вепсов, восточнославянских народов, а также в Норвегии, Финляндии [5, 714-715 ]43.
Петух и курица – домашние птицы, занимающие особое место в атрибутике похоронно-поминальной обрядности у многих народов [4, 56]44. В людиковской деревне Сопоха (Кондопожский район) умершего от сыпного тифа хоронили вместе с живым петухом, олицетворяющим это заболевание, в гробу, который заколачивали гвоздями, пытаясь таким образом остановить распространение заболе-вания45. Обычай захоронения больных с живым петухом (вариант – с кошкой) был распространен среди карел и других народов бывшего СССР46. В Галлезере про старого человека, передвигавшегося с палкой в руках, говорили: “Täll on dʼo asteged lühettu kui kukuoil, tʼämä ei hätʼked nügüde elä” («Его шаги уже укорачиваются, как у петуха, ему недолго теперь жить»)47. Среди михайловских людиков существовало поверье, что курица, запевшая петухом, – к смерти48. У жителей Михайловского и Галлезера бытовала примета о том, что вечером или ночью петух поет перед по-койником49. Идентичная примета зафиксирована у вепсов: крик петуха в «непоказанное» время (днем или вечером) предвещал плохие вести для обитателей дома50.
Вестницей смерти у людиков считалась залетевшая в дом бабочка. Народ часто воспринимал ее как визит умершего: насекомому нельзя было ни в коем случае причинять вред, тем более убивать его. Следовало открыть все двери дома настежь и помахать каким-нибудь предметом, чтобы бабочка сама нашла путь на волю51. Сходное сакральное отношение к залетевшим в дом бабочкам, особенно во время похорон или поминок, обнаруживается у карел-ливвиков Пряжинского района, русских, вепсов и марийцев [19, 51]52. Еще Е. В. Барсов в 1872 г. отмечал, что ба- бочку в Олонецкой губернии положительно называют «чьей-нибудь душенькой»53.
Сон как пограничное состояние между жизнью и смертью часто представляется пространством соприкосновения с иным миром. Михайловские людики предсказывали скоропостижную смерть кого-нибудь из сородичей, если во сне видели челове-ка54, плывущего на белой лодке в сторону кладбища55. Визит во сне умершего близкого родственника был еще одним способом контакта с живыми. В людиковских причитаниях часто звучал призыв к покойнику явиться во сне (например, в том же образе «птички-бабочки») и «рассказать о житье на том свете», передать «свежие весточки» покойным родственникам:
Ala dʼo siä mindaa unohta, tule dʼo siä minun no uniiš, sanu siä, kutt siga eloižed. Miä roskažin silii kaiken oman eluižen, oman obidaižen.
«Ты уже меня не забудь, приди уже ко мне во сне, скажи ты, как там жизнюшка. Я расскажу тебе все о своей жизнюшке, о своей обидушке» (с. Михайловское)56;
Opi sulembil sanaižil, sulgaiženi, suladelta häntä, eigo hod’ liipoi-linduižinnu tule da sigi-unuižih hod’ uinonnet, ga ozutelda da sanele siuleis.
«Постарайся, мое перышко, приласкать его ласковыми словами, не прилетит ли он хоть птицей-бабочкой, И как заснешь крепким сном, так не покажется ли во сне и не поговорит ли с тобой» (с. Святозеро)57.
У многих народов отмечается отождествление дерева с человеком и его жиз-
(^jl ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ ненным циклом, в том числе со смертью. Мифологические представления карел о ели как дереве предков проявляются в выборе еловых рощ для старинных кладбищ [6, 117–118 ]. Падение ели или другого хвойного дерева предвещало скорейшую смерть кого-либо из родственников. Так, информант 1928 г. р. из д. Палнаволок (Олонецкий район) сообщила, что перед смертью ее сына дерево у их дома обвалилось в результате непогоды. Это дерево она несколько раз назвала сначала ped’ (‘сосна’), а потом по-русски ёлкой, что, видимо, говорит о сходных сакральных свойствах данных деревьев58. В Спасской Губе записано сообщение, что падение любого дерева предсказывает гибель кого-нибудь из односельчан59. Данную примету можно отнести к общекарельским60.
Определенные дни в году и природные явления считались благоприятными для отхода в мир иной. Желанной была смерть в Пасху (у михайловских людиков – в любой православный праздник) – душа в таком случае обязательно попадает в рай61, что связано с христианским учением [1, 180 ]. У северных карел-людиков хорошим знаком было появление радуги в момент смерти62. По всей вероятности, людики, как и прионежские вепсы, считали радугу своеобразным мостом, по которому покойники переправляются в место вечного пребывания. Аналогичные представления о радуге существуют и у народов германской языковой группы, их источником служат древние скандинавские мифы63.
Заключение
Таким образом, сравнительно-исторический анализ мифологических представлений людиков о смерти, переходе в иной мир и образов предвестников кончины позволил выделить несколько этнических компонентов, из которых сформировался данный комплекс в среде людиковской группы.
Как известно, похоронно-поминальной обрядности свойственна наибольшая консервативность пронизывающих ее ритуалов по сравнению с другими обрядами жизненного цикла [8, 195 ]. Это позволило сохраниться в ней многим компонентам общего прибалтийско-финского происхождения. Кончину людики определяли как акт отделения души от тела, который происходит по воле предков ( syndyd ). Аналогичные представления о наступлении смерти были известны остальным карелам, финнам, вепсам. По всей вероятности, они относятся к общеприбалтийско-финскому периоду. Компонентами прибалтийско-финского происхождения (и шире – финно-угорского) можно считать отголоски верований о существовании второй души-тени, выраженные в термине iče , и о предсмертном заболевании – родимчике. Прибалтийско-финский пласт включает также лексику: heng ‘душа’, surm , kuolend ‘смерть’, heng lähtöu ‘душа выходит’, heng lendau ‘душа улетает’ и т. д.
У людиков прослеживаются и общекарельские воззрения о местонахождении души ( hengen koht ) в подложечной области и связи разных пород деревьев со смертью человека: предсказания смерти при падении сосны, ели (Михайловское) или любого дерева (Спасская Губа). У михайловcких людиков обнаружены характерные для карел представления о связи кукушки с солнцем; у кондопожских – о преодолении душой огненной реки, свойственные северным карелам.
Некоторые аналогии обнаруживаются с финно-угорскими и индоевропейскими народами, это касается связи дятла или курицы (петуха) со смертью, сакрального отношения к залетевшей бабочке, символизирующей визит души умершего, пред- ставления о радуге – мосте в иной мир. Эти и другие древние воззрения карел-люди-ков (например, о нахождении загробного мира за водой или другой преградой, преодолении душой сложного пути к нему) являются универсальными, характерными для многих народов.
Несмотря на длительные контакты с русским населением, собственно славянский комплекс представлений о смерти выражен у карел-людиков слабо. Влияние русской культуры проявилось главным образом через христианские понятия о существовании рая (душа находится «с Богом») и о православных праздниках (Пасха) как «благоприятных» датах для умирания.
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ вепс. – вепсский язык вод. – водский язык кар. – карельский язык ливв. – ливвиковское наречие карельского языка люд. – людиковское наречие карельского языка НА Научный архив Карельско-
КарНЦ – го научного центра РАН соб. кар. – собственно карельское наречие карельского языка
ФА Фонограммархив Института язы-
ИЯЛИ – ка, литературы и истории Карель ского научного центра РАН фин. – финский язык эст. – эстонский язык
SKS – Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
Kansanrunousarkisto (Фольклорный архив Общества финской литературы, г. Хельсинки)
Original article
DOI: 10.15507/2076-2577.014.2022.03.304-314
ISSN 2076-2577 (Print), 2541-982X (Online)

Список литературы Приметы о скорой смерти и представления о переходе в иной мир карел-людиков
- Бернштам Т. А. Молодость в символизме переходных обрядов восточных славян: Учение и опыт Церкви в народном христианстве. СПб.: Петерб. востоковедение, 2000. 395 с.
- Винокурова И. Ю. Мифологические представления о птицах в вепсской традиции и карело-финском эпосе // «Калевала» в контексте региональной и мировой культуры: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 160-летию полн. изд. «Калевалы». Петрозаводск, 2010. С. 251–259.
- Волкова А. А. Синтаксические особенности возвратных местоимений в финноугорских языках // Финно-угорские языки: фрагменты грамматического описания. Формальный и функциональный подходы: сб. ст. М., 2012. С. 543–590.
- Голубкова О. В. Орнитоморфная символика похоронного обряда в локальных вариантах славянских культовых традиций // Проблемы духовной культуры народов Европейского Севера и Сибири: сб. ст. памяти Юго Юльевича Сурхаско. Гуманитарные исследования. Петрозаводск, 2009. Вып. 2. С. 55–65.
- Гура А. В. Символика животных в славянской народной традиции. М.: Индрик, 1997.910 с.
- Конкка А. П. Ель с золотой вершиной, или Дерево предков (материалы по карельской мифологии и обрядности) // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2018. № 7. С. 113–121. DOI:10.15393/uchz.art.2018.238.
- Конкка А. П. Материалы похоронной обрядности и типологии сельских кладбищ людиковского ареала // История и традиционная культура народов Карелии и сопредельных областей в свете новых источников, методов и подходов (памяти Р. Ф. Никольской). Петрозаводск, 2017. С. 219–237.
- Конкка А. П. Похоронно-поминальная обрядность // Народы Карелии: ист.-этногр. очерки. Петрозаводск, 2019. С. 194–209.
- Конкка У. С. Поэзия печали: Карельские обрядовые плачи. Петрозаводск: КНЦ РАН, 1992. 295 с.
- Лимеров П. Ф. Мифология загробного мира. Сыктывкар: Коми науч. центр УрО РАН, 1998. 128 с.
- Логинов К. К. Семейная обрядность. Похоронно-поминальная обрядность // История и культура Сямозерья. Петрозаводск, 2008. С. 291–300.
- Логинов К. К. Традиционный жизненный цикл русских Водлозерья: обряды, обычаи и конфликты. М.: Русский фонд содействия образованию и науке; Петрозаводск: Ун-т Дмитрия Пожарского, 2010. 424 с.
- Логинов К. К., Краснопольская Т. В. Будни и праздники. Семейные обряды // Деревня Юккогуба и ее округа. Петрозаводск, 2001. С. 237–256.
- Мокшин Н. Ф. Языческие верования мордвы и ее христианизация // Мордва. Очерки по истории, этнографии и культуре мордовского народа. Саранск, 2004. С. 475–497.
- Пашкова Т. В. Испуг как причина и способ лечения заболеваний в народной медицине карел // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2016. № 5. С. 26–29.
- Садиков Р. Р. Традиционные религиозные верования и обрядность закамских удмуртов (история и современные тенденции развития). Уфа: ЦЭИ УНЦ РАН, 2008. 231 с.
- Сурхаско Ю. Ю. Семейные обряды и верования карел, конец XIX – начало XX в. / отв. ред. Е. И. Клементьев. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1985. 172 с.
- Федорова Е. Г. Представления о смерти, мире мертвых и погребальный обряд обских угров // Мифология смерти: Структура, функция и семантика погребального обряда народов Сибири: этногр. очерки. СПб., 2007. С. 198–219.
- Чухина А. А. Свадьба, родины и похороны в Каргополье // Живая старина. 2004. № 2. С. 49–51.
- Шанина Ю. С. Акустический код кладбища д. Родома Лешуконского района // Memento Mori: похоронные традиции в современной культуре. М., 2015. С. 162–181.
- Hakala H. Lyydin verkkosanakirja valmistui // Karjalan Heimo. 2020. No. 7–8. S. 124–126.