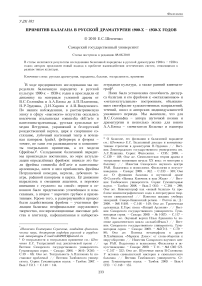Примитив балагана в русской драматургии 1900-х - 1930-х годов
Бесплатный доступ
В статье излагаются результаты исследования балаганной парадигмы в русской драматургии 1900-х - 1930-х годов; автором предложен новый подход к проблеме взаимодействия эстетических систем, относящихся к разным типам культуры.
Русская драматургия, парадигма, балаган, театральность, примитив
Короткий адрес: https://sciup.org/148100526
IDR: 148100526 | УДК: 882
Текст научной статьи Примитив балагана в русской драматургии 1900-х - 1930-х годов
°
В ходе предпринятого исследования мы определили балаганную парадигму в русской культуре 1900-х — 1930-х годов и проследили е ё динамику на материале условной драмы от В.С.Соловь ё ва и А.А.Блока до А.П.Платонова, Н.Р.Эрдмана, Д.И.Хармса и А.И.Введенского. По нашим наблюдениям, в рассматриваемую эпоху в сферу «высокого» искусства оказались вовлечены итальянская commedia dell’arte и пантомима-арлекинада, русская кукольная комедия Петрушки, украинский и белорусский рождественский вертеп, цирк и спортивное состязание, лубочный настенный театр и потешная панорама (ра ё к), фейерверк и феерия — точнее, не сами эти разновидности и компоненты театрального примитива, а их модели (фреймы)1. Складывание балаганной парадигмы происходило постепенно, по мере актуализации определ ё нных фреймов: вначале это были фреймы commedia dell’arte и пантомимы-арлекинады, затем к ним прибавились фреймы Петрушечной комедии, вертепа, лубочного театра, ра ё шной панорамы и цирка. Е ё движение выразилось в смещении акцентов, в переносе внимания с «чужого» на «сво ё »: первое в основном было представлено утонч ё нным и изысканным, а второе – нарочито грубым и примитивным. Кроме того, в развернувшийся процесс были задействованы фреймы – участники филиации балагана: неофициальное «кружковое» творчество, послереволюционные массовые действа и агиттеатр, кафешантанная и кабаретно-
Шевченко Екатерина Сергеевна, кандидат филологических наук, докторант кафедры русской и зарубежной литературы E-mail:mkb09093@samtel. ru эстрадная культура, а также ранний кинемато-граф2.
Нами была установлена способность дискурса балагана и его фреймов к «метаязыковым» и «метатекстуальным» построениям, объясняющим своеобразие художественных направлений, течений, школ и авторских индивидуальностей указанного периода. Мы выяснили, что для В.С.Соловь ё ва - автора шуточной поэзии и драматургии и несколько позже для юного А.А.Блока – «почитателя Козьмы» и соавтора
«фантастической драмы» «Оканея» балаганный дискурс стал способом приобщения к неофициальному «кружковому» искусству и особому, функционирующему в этой среде и лишь посвящённым в неё понятному языку. В эпоху кризиса символизма балаган был понят как «текст о жизни» и как «текст об искусстве» – жизни и искусстве в отсутствие гармонии и порядка; он явился одновременно и формой самокритики течения, и формой манифестации изменившейся системы ценностей и эстетики, повлиял на процессы разрушения прежних символов и на процессы созидания новых символов, с неизвестными прежде значениями. Под влиянием балаганной эстетики претерпела существенные изменения и сама структура символа: расположившись преимущественно на плоскости, ассоциативные сцепления внутри символического образа стали почти что зримыми, «зрелищными», «театральными». Достаточно грубые у В.С.Соловьёва, в символизме А.А.Блока, Ф.К.Сологуба и др. балаганные фреймы подверглись «окультуриванию» и эстетизации. Авангард с первых своих шагов отринул модернистские представления о балагане: в противоположность предшественникам футуристы обратились к первозданно грубой его природе, сделав акцент не столько на плоскостности, отсутствии объёма, глубины, сколько на сопряжении плоскостей, вертикалей и горизонталей, а также на «шероховатости», «неотделанности» фактуры; в площадном прошлом балагана и живом, импровизационном характере балаганного представления они увидели будущее искусства – зрелищного, динамичного, актуального; нефокусированное, «осколочное» зрение балаганного героя, фрагментарность, монтажность балаганного действа и наивную балаганную машинерию взяли за основу собственных драматургических и театральных проектов. Авангард актуализировал балаганные и «постбалаганные» фреймы и значения фреймов, отличные от тех, что присвоил или выработал модернизм. Футуристы привлекли фреймы цирка и спортивного состязания, в которых опознали необходимые им координаты человеческой телесности; на смену утончённым, изломанным, немного женственным кукольночеловеческим образам символистского балагана пришёл новый герой балагана футуристического: мужественный Будетлянин, укротитель и победитель мира, – таковы положительные персонажи «Победы над Солнцем» А.Е.Кручёных, «Ошибки Смерти» В.В.Хлебникова, «Мисте-рии-буфф» В.В.Маяковского. Механическую инерцию балагана футуристы преобразовали в энергию машины, придав миру и человеку ещё одно важное – «сверхчеловеческое», «ницшеан- ское» – измерение. В качестве пространственных моделей в футуристическом театре и драме выступили балаганные фреймы вертепа и райка: вертикальное развёртывание мира совершалось по подобию вертепа, благодаря чему появилась возможность чётко разграничить полюса («низ» и «верх», «землю» и «небо», «ад» и «рай» и т.п.); горизонтальное – по подобию раёшной панорамы, вследствие чего произошло невероятное сближение далёкого, разномасштабного (случайного и закономерного, бытового и исторического, реального и небывалого и т.п.). Фреймы вертепа и райка были задействованы в организации нового пространства в опере Кручёных «Победа над Солнцем»; для драматургии Маяковского также были характерны обе модели – в «Мистерии-буфф», «Клопе» и «Бане» они удачно дополняли друг друга; Хлебников тяготел к раёшному, панорамному принципу объединения пространства – его театр воображаемых миров располагался где-то между «одиноким лицедейством» и «игрой с Мировой Волей». Тенденция к балаганному развёртыванию мира, наметившаяся в футуристическом театре и драме, у следующего поколения авангардистов сменилась диаметрально противоположной тенденцией к его свёртыванию. В качестве пространственной модели были привлечены другие балаганные фреймы: прежде всего кукольный театр и театр марионеток, а также отдельные компоненты балаганных фреймов – цирковой реквизит и предметы, его замещающие: сундук, где хранятся куклы, ящик факира или фокусника и, наконец, шкаф («шкап») как главный «виновник» таинственных появлений и исчезновений людей и предметов. Максимальных значений симплифика-ция, редукция, компрессия мира и человека достигли в заумном театре И.М.Зданевича. В пьесах и драматических сценках обэриутов Д.И.Хармса и А.И.Введенского «Всемирную Космораму» вытеснило собрание жалких и ничтожных марионеток: их театр мироздания, подвергнутый насильственному сжатию, уместился в коробе из-под кукол, отдаленно напоминающем «кукольный дом» из одноименной пьесы Г.Ибсена. В «Ёлке у Ивановых» Введенский уподобил мир иератичному3 лубку: нарисованные картины ненадолго развёртывались в игре и действии, чтобы потом свернуться и застыть навсегда. На уровне персонажей в обэри-утском театре и драме действовали те же механизмы свёртывания, и человеческое поведение выглядело бесчеловечным, поскольку мотивировки насилия либо сводились к нулю, как у Хармса, либо граничили с абсурдом, как у Вве- денского. В неореалистических стилизациях, таких как «Блоха» Е.И.Замятина, «Слон» и «Царь Потап» А.А.Копкова мера условности и упрощения приближалась к значениям, свойственным примитиву балагана, поскольку они были направлены на реконструкцию жанров народной комедии и народной драмы; нечто подобное наблюдалось в пьесах А.П.Платонова «Шарманка» и «14 Красных Избушек, или Герой нашего времени», ориентированных на народный просветительский театр. В пьесах Н.Р.Эрдмана и В.В.Маяковского второй половины 1920-х годов герои продвигались от условных, типизированных, напоминающих персонажей commedia dell’arte, театра Петрушки или народной драмы, к индивидуализированным, рефлектирующим, наделённым способностью к самоидентификации, хотя бы на самом примитивном уровне, – животная телесность парадоксальным образом связывалась авторами с человечностью. Однако и здесь действовали принципы, свойственные примитиву: вместо долгого пути – мгновенный переход из одного состояния в другое, мотивированный «пороговой» ситуацией, которую переживали герои. Исследование показало, что в эпоху 1900-х – 1930-х годов балаганная парадигма развивалась не обособленно, а в активном диалоге с парадигмой мистериальной4. У истоков обеих стоял В.С.Соловьёв, и на всём пути балаганная парадигма и парадигма мистериальная дополняли, уточняли, корректировали друг друга. Влияние на драматургию и театр того времени мистерии, хоровой драмы и монодрамы обусловило некоторый их уклон в сторону ритуальных практик, в том числе и архаических. На религиозность и священнодействие была ориентирована одна из наиболее авторитетных в культуре 1900-х годов концепция соборного театра, выработанная в символистском кругу, но распространившая своё влияние далеко за его пределы. В годы кризиса символизма она была обращена в сторону эстетизма и игры, смещена на периферию художественного сознания и ослаблена концепцией балагана («весёлой соборности»). После Октября 1917-го её авторитет был восстановлен в новом качестве: не религиозном и даже не эстетическом, но отчётливо социальном – в мистериальной драматургии Маяковского, послереволюционных массовых действах и агитте-атре времён гражданской войны. Иной исход древней мистерии и хоровой драмы в русской культуре рассматриваемого периода – снижающий, пародийный – был связан с кафешантанной, опереточной и кабаретно-эстрадной традицией. Этими чертами затронуты пьесы самых разных авторов: Соловьёва, Кручёных, Эрдмана, Введенского и др. Существенными сдвигами отмечены отношения между мистерией и игрой в театре и драматургии авангарда. Отрицательная динамика прослеживается в движении от «чудесавлей» Хлебникова к абсурдным комедиям и драмам Хармса и Введенского: излюбленная Будетлянином и Предземшара метонимическая игра на тему «человек – Вселенная» у обэриутов оборачивается катастрофической потерей смысла. Сохраняя некоторые признаки и значения мистерии и монодрамы из числа тех, что приписывали им Н.Н.Евреинов и Хлебников, пьесы Хармса и Введенского утрачивают главный: в них нет мистериального восхождения, а есть лишь «спиритическое» верчение-витийство уподобленных марионеткам персонажей в абсурдном мире. Союз мистерии и балагана в театре обэриутов несёт трагические и, одновременно, граничащие с нонсенсом, наивной, детской нелепицей смыслы.
Итак, нами исследованы механизмы проникновения театрального примитива на территорию профессионального драматического и театрального искусства; уточнена природа театральности, отмечены черты перформативного поведения и игрового слова в театре и драме; определена балаганная парадигма, прослежены е ё становление и характер изменений в художественном процессе эпохи; намечены пути анализа пьес драматургов, избравших установку на условность и примитивизм. В заключение отметим, что диалог русского условного театра и драмы 1900-х – 1930-х годов с примитивом балагана оказался весьма плодотворен для их развития, и согласимся с убеждением В.Э.Мей-ерхольда: «Балаган вечен. Его герои не умирают. Они только меняют лики и принимают новую форму»5.
LOW FARCE PRIMITIVE IN RUSSIAN DRAMA OF 1900 – 1930’S
Список литературы Примитив балагана в русской драматургии 1900-х - 1930-х годов
- Шевченко Е.С. Театральный код довлатовской прозы//Вестник Самарского государственного университета. Гуманитарная серия. -Самара: 2006. -№10/2(50). -С.59 -66
- Шевченко Е.С. Театральность А.Платонова (к постановке проблемы)//Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. -Тамбов: 2007. -Вып.7 (51). -С.140 -144.
- Шевченко Е.С. Балаганный дискурс и коммуникативные стратегии в драматургии Н.Эрдмана//Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С.Пушкина. Серия: Филология. -СПб.: 2008. -С.139 -148
- Шевченко Е.С. Символистская теория драмы и театральные концепции начала ХХ века: от мистерии к балагану//Известия Самарского научного центра РАН. Педагогика и психология. Филология и искусствоведение. -Самара: 2008. -№2. -С.333 -340
- Шевченко Е.С. О функциях балагана в шутовской драме Ф.Сологуба «Ванька Ключник и паж Жеан»//Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. -Тамбов: 2008. -Вып.5 (61). -С.284 -289
- Шевченко Е.С. Кинематограф как «новый балаган» (к проблеме кинематографического кода в литературном творчестве символистов)//Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. -Ростов на/Д.: 2008. -№6 (148). -С.146 -149
- Шевченко Е.С. Трагическая арлекинада Е.Гуро: пьеса «Нищий Арлекин»//Вестник Самарского государственного университета. Гуманитарная серия. -Самара: 2009. -№ 1(67). -С.117 -123
- Шевченко Е.С. Заумный вертеп Ильи Зданевича (о поэтике драматического цикла «аслааблИчья»)//Вестник Самарского государственного университета. Гуманитарная серия. -Самара: 2009. -№5(71). -С.79 -86
- Шевченко Е.С. Поэтика метаморфозы в драме В.Хлебникова «Маркиза Дэзес»: от слова-оборотня к миру-оборотню//Известия Самарского научного центра РАН. Педагогика и психология. Филология и искусствоведение. -Самара: 2009. -Т.11. -№4 (30) (2). -С.517 -522
- Шевченко Е.С. Шуточные пьесы В.Соловьева: У истоков символистской мистерии и символистского балагана//Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. -Тамбов: 2009. -Вып.4 (72). -С.148 -155.
- Соколов Б.М. Художественный язык русского лубка. -М.: 2000. -С.138.
- О мистериальной парадигме см.: Дашевская О.А. Жизнестроительная концепция Д.Андреева в контексте культурфилософских идей и творчества русских писателей первой половины ХХ века. -Томск: 2006.
- Мейерхольд В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. В 2-х ч. -Ч.1 (1891 -1917). -М.: 1968. -С.222.