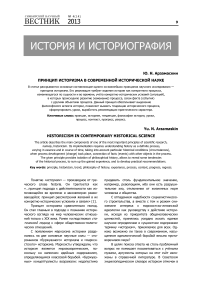Принцип историзма в современной исторической науке
Автор: Арзамаскин Ю.Н.
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 4 (14), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрываются основные составляющие одного из важнейших принципов научного исследования - принципа историзма. Его реализация требует видения истории как конкретного процесса, изменяющегося по сущности и во времени, учёта конкретно-исторических условий (ситуаций), в которых происходило развитие (изменение) процесса, связи факта (события) с другими объектами процесса. Данный принцип обеспечивает выделение философского аспекта истории, позволяет выявить тенденции исторического процесса, сформулировать уроки, выработать рекомендации практического характера.
Принцип, историзм, тенденция, философия истории, уроки, процесс, контекст, прогресс, регресс
Короткий адрес: https://sciup.org/14113862
IDR: 14113862
Текст научной статьи Принцип историзма в современной исторической науке
Понятие «историзм» — производное от греческого слова historia. Он трактуется как «…принцип подхода к действительности как изменяющейся во времени и закономерно развивающейся; принцип рассмотрения явлений в их конкретно-исторических условиях и связях» [1].
Принцип историзма сравнительно молод. Он стал главным в подходе к познанию исторического взгляда на мир человеческих отношений только с XIX века. Ранее господствовал статический подход к сфере общественно-политических отношений.
С появлением марксизма историки разделились на две основные научные силы — сторонников «буржуазного» историзма и «марксистского» историзма. Марксисты утверждали, что историзм является мировоззренческим, поскольку он наполнен идейным содержанием, определяющимся классовой борьбой. «Буржуазные» концептуалисты возражали: недопустимо придавать столь фундаментальное значение, например, революциям, ибо они есть разрушительное зло, отклонение от жизненных норм человека и общества.
С отпадением надобности социалистического строительства, а вместе с тем и резким снижением интереса к марксистско-ленинской идеологии как руководству к действию историки, исходя из приоритета общечеловеческих ценностей, принялись усердно искать единое научное определение и сущностное содержание термину «историзм», приемлемое для всех. Однако возможно ли такое в современном, насыщенном идеологической борьбой весьма противоречивом мире?
В целях поиска ответа на столь проблемный вопрос не помешает посоветоваться с учёными мужами, аргументы которых на этот счёт изложены в справочной литературе. В Советском энциклопедическом словаре историзм отмечен в виде «…принципа подхода к действительности как изменяющейся во времени, развивающейся… Включает рассмотрение объекта как системы, обладающей определённой внутренней структурой, изучение процесса его развития, выявление качественных изменений объекта, законов перехода от одного состояния к другому» [2].
Словарь приводит основную точку зрения идеологов КПСС на историзм. Да, она ориентировала учёных углублять, расширять видение историзма как научного принципа исследования, но с незыблемым марксистско-ленинским фундаментом. В Философском словаре под редакцией М. М. Розенталя (1975) читатели находят, что «…благодаря этому принципу, составляющему неотъемлемую и важную сторону диалектического метода, марксизм сумел объяснить сущность таких сложных общественных явлений, как государство, классы и др., предвидеть исторически преходящий характер капитализма, неизбежность смены его социализмом...» [3].
В новых изданиях, пришедших на смену советским, историзм сохранил своё место, но рассматривается уже «…без законов перехода из одного состояния в другое», а как «…принцип подхода к действительности (природе, обществу, культуре) как становящейся и развивающейся во времени» [4].
Кроме энциклопедических и других относительно научно-официальных источников, определяющих историзм, имеют (и будут иметь) место десятки авторских позиций, отражающих как официальную точку зрения на историзм, так и своё личное видение и оценки. Независимо от этих обстоятельств, принцип историзма давно вписался и в русский язык как термин, и в историческую науку как обязательное условие любого исследования.
Профессор А. Т. Степанищев выделяет пять основных компонентов, составляющих принцип историзма и способствующих его научной реализации [5]. Рассмотрим их.
Принцип историзма обеспечивается видением истории как конкретного процесса, изменяющегося по сущности и во времени. Даже самые захватывающие факты и события, собранные историком, оставаясь обособленными друг от друга, не могут удовлетворить науку. Другое дело, когда найденные факты выстраиваются в единую вереницу событий, ведущую нас из прошлого в настоящее, вплоть до нашего времени, и показывают процесс — конкретный, последовательный и непрерывный.
Исторические процессы бывают непродолжительными (вооружённое восстание, государ- ственный переворот, к примеру), перемены в них происходят калейдоскопически быстро. Но в абсолютном большинстве случаев течение истории весьма замедленно, отдельные звенья её процессов растянуты на десятилетия, случается — и на столетия. И чтобы размотать такой исторический клубок, понять сущность процесса, заметить тенденции, может быть, и какие-то тени закономерностей, требуется огромная хронологическая и событийная ретроспектива.
Историк строит своё исследование так, чтобы его манускрипт выглядел вехами развивающегося процесса — содержательными и хронологическими. Здесь актуальнейшим более ста лет остаётся известный взгляд на вопросы, как конкретное явление в истории возникало, какие главные этапы в своём развитии это явление проходило и чем данная вещь стала теперь [6].
Исследователь под развитием имеет в виду не только прогресс или регресс, а весь процесс изменений , в основе которого лежит лишь один основной критерий — новые качества (свойства, черты, особенности), независимо от их характера.
Исторический процесс может предстать перед читателем в искажённом виде, если историк не показал в ходе исследования изменений во взглядах авторов на его составляющие. Творцы науки, увы, часто зависимы от общества и его институтов. Отдельные из них подвергаются воздействию, меняют свои прежние взгляды на новые, когда вызревают и срабатывают разнородные факторы, от которых не уйти, которые не обойти, не отодвинуть. По мнению Н. И. Павленко, таких факторов насчитывается три.
Во-первых, изменение во взглядах происходило под влиянием развития самой исторической науки: накопление знаний, открытие новых источников подвигало историков менять оценки, корректировать прежние представления. Пример тому — открытие за открытием с начала 1950-х гг. А. В. Арциховским, затем В. Л. Яниным новгородских берестяных грамот, которые существенно трансформировали представления историков о грамотности населения как составляющей общей культуры, социальном устройстве первой славянской республики, жизни и быте её граждан [7].
Во-вторых, творчество историка подвергалось воздействию общественно-политической среды; общество, находясь в непрерывном движении, переоценивало события давно прошедших времён, выдвигало перед историками новые задачи, нацеливало на исследование сюжетов, даже не попадавших в поле зрения предшествующих поколений специалистов. К примеру,
Польское восстание 1863 года побудило историков С. М. Соловьёва, М. П. Погодина, Н. И. Костомарова взяться за перо и создать ряд произведений по истории Польши, содержание которых по многим позициям существенно отличалось от предыдущих работ с такими же или аналогичными названиями.
В-третьих, исторические подходы и концепции менялись под влиянием философских систем, вооружавших историков теоретическими и методологическими знаниями, необходимыми для объективного осмысления прошлого. Именно использование новых философских взглядов позволило историкам перейти от статического описания фактов и событий к их диалектическому осмыслению, к установлению причинноследственных связей между ними, определению им места в логической цепи процесса и т. д.
Таким образом, если мы что-то называем историческим процессом, мы подтверждаем это последовательностью составляющих его компонентов, непрерывностью хода и завершением. При этом учитываются частные моменты, в том числе изменённые мнения, даже субъективные суждения историков, обогащающие процесс.
Принцип историзма предполагает учёт конкретно-исторических условий (ситуаций), в которых происходило развитие (изменение) процесса. Крупный авторитет в исторической науке, лауреат Нобелевской премии за труд «История Рима» Т. Моммзен предупреждал о недопустимости отделять оценку фактов, событий, лиц от конкретных условий, в которых они происходили (жили).
По мнению ряда учёных, принцип историзма в рассматриваемом аспекте включает две ведущие составляющие: различие между прошлым и настоящим и исторический контекст.
Различие . Современники отличаются от предков настолько, что понять их нам далеко не просто. Для достижения консенсуса по тому или иному спорному вопросу требуется вести с предшественниками многотрудные дискуссии-переговоры, когда тонко и дипломатично, когда жёстко, но всегда через новые источники и методы их исследования. Многое приходится уточнять, показавшееся маловероятным или расплывчатым детализировать через анализ и синтез, уже изведанное и обобщённое, наконец, пытаться оказаться на их месте во времени, социальном положении и в различных жизненных ситуациях той поры.
Иногда молодые историки видят своё же прошлое чуть ли не как мир чужой им страны: ментальность людей со временем в чём-то ме- няется, образ жизни другой, язык был не тот, что ныне, умственный потенциал сильно разнится и т. д. Это так. Оторопь берёт современника, к примеру, от казни в России неверных жён через закапывание в землю по шею, да не на кладбище, а в людных местах, при многочисленных скоплениях народа, да не тысячу лет назад, а еще в XVII веке такое практиковалось. А публичные казни в Англии того же времени? Они привлекали десятки тысяч зевак, в том числе женщин и детей, которые хладнокровно, нередко с одобрительным гулом и выкриками, наблюдали за узаконенными действиями палачей. Ныне такие акты вызвали бы отвращение и страх, во всяком случае, в православно-христианском мире. Даже современное телевидение, не сильно склонное к высокой морали, предупреждает зрителей перед демонстрацией сюжетов о проявлении жестокости людей по отношению к другим людям, о необходимости отвернуться или закрыть глаза (к примеру, при показе казни заложников бандитами через отрезание головы и т. п.).
И время у нас с далёкими предшественниками разное, и люди, мы и они во многом непохожи. Но в том-то и мудрость историка, чтобы понять наше минувшее не как старый деревенский погреб «без окон, без дверей» с закрытым сверху лазом, внутри которого ничего не видно, и непонятно, кого и зачем надо искать и ловить в этой чёрной пустотелости. О жизнедеятельности человека в прошлом всегда что-то уже известно. Важно это «что-то» найти, нарастить информацией, проанализировать, наконец, синтезировать. Исследователь постоянно ищет точки соприкосновения между известным и неизвестным из прошлого, когда в одном, когда в различных временных срезах.
Контекст . Историк добыл множество фактов, обобщил их основные идеи, даже увидел какие-то тенденции, но при этом сделал ошибочные выводы. Основная причина тому — историк представил прошлое глазами современника.
Исследователь, не вписавшийся в контекст истории, похож на современного актёра российского кино, который в течение дня, недели, месяца снимается в трёх-четырёх совершенно разножанровых по содержанию фильмах. Актёр даже не осознаёт необходимости вписаться в контекст того времени, о котором в картине идёт речь. Потому фильмы (и наши труды иногда, увы) становятся пригодными лишь для разового использования невзыскательной аудитории.
Историки отмечают: реализация принципа историзма, учёт конкретно-исторических усло- вий — это как сыновнее уважение к прошлому, которое предполагает поиск, нахождение и адекватное восприятие его ценностей и, конечно же, не допускает их сопоставления на равных с современными ценностями.
В этом месте возникает встречный вопрос: «Почему же от историков требуется смотреть на историю любого времени как на современную?». Здесь имеется в виду, что будь то история времен Рюрика или Александра II, Ивана IV или И. В. Сталина, А. Македонского или А. В. Суворова и т. д., её изучение требует применения современных методов исследования — вот в чем суть.
Герцен А. И., говоря о разнообразии видения конкретно-исторических условий, в которых происходило то или иное событие, наставлял: «Последовательно оглядываясь, мы смотрим на прошедшее всякий раз иначе, всякий раз разглядывая в нём новую сторону, всякий раз прибавляем к уразумению его весь опыт вновь пройденного пути. Полнее сознавая прошедшее, мы уясняем современность; глубже опускаясь в смысл былого, раскрываем смысл будущего, глядя назад — шагаем вперёд» [8].
Принцип историзма обеспечивает связь факта (события) с другими объектами процесса. Факт, даже важный, но вырванный из общего контекста, имеет для исследователя малую ценность, если имеет вообще. Любое звено в общей цепи процесса, чтобы стать полноценным, должно представляться во взаимосвязи с предшествующими и последующими звеньями этой цепи. Историкам известно, что отдельные, вроде бы и особо ничем не примечательные звенья самого начала цепи (далёкого прошлого), нередко в своей значимости обретают актуальность только в самом конце цепи (на завершающем этапе процесса) .
Другая сторона дела — связь факта, события с объектами, находящимися вне основной единой цепи процесса, но соприкасающимися с ними в той или иной форме взаимодействия. В понимании этого вопроса историку не избежать использования смежных наук. А. С. Лаппо-Дани-левский отмечал, что если исследователь пристально всматривается в историю человечества, он неизбежно «…замечает всё более и более возрастающую взаимозависимость между её частями: он всё менее способен понять историю, например, вне её зависимости от ряда событий, положим, от тех открытий и изобретений, движений народных масс и переселений, реформ, сражений и т. п. фактов, которые оказывают всеобщее влияние на целую совокупность народов, т. е. на дальнейший ход их раз- вития, мысленно переходя от предшествующего периода истории человечества к последующему её периоду, он всё менее в состоянии изучать один без другого, историю одного народа вне её связи с историей другого народа, историю его культуры вне её отношения к культурным влияниям других народов и т. п.» [9].
Вряд ли кому удастся сформировать цельное представление об историческом процессе, значительном событии, важном факте, не используя социологию, литературу, географию, астрономию, философию, даже химию, математику и т. д., — все они связаны с историей потому, что, во-первых, вошедшие в неё личности были не только политиками и полководцами, они представляли все сферы жизнедеятельности государства, а во-вторых, отдельные открытия в области естественных наук значительно влияли на решение глобальных общечеловеческих проблем, ещё более влияют в настоящее время.
Многим учёным естественных и точных наук не была чужда и сама история, и её составляющие. Из-под их пера выходили труды, непосредственно или прямо относящиеся к истории. Достаточно вспомнить наполненное гражданским пафосом поистине историческое письмо писателя Л. Н. Толстого Николаю II, труд химика Д. И. Менделеева об устройстве России, политическое письмо физиолога И. П. Павлова председателю Совета народных комиссаров В. М. Молотову о неладах в советских порядках, обращение писателя А. И. Солженицына в Государственную Думу с предложениями социальнополитического характера «Как нам обустроить Россию» и т. д. и т. п.
Академик К. М. Бэр, естествоиспытатель, мечтал о построении «мостов между науками». История — один из главных таких мостов. Но всякий мост имеет двустороннее движение. В одну сторону направлена масса исторической информации, полезной для других наук — общественных и естественных; в обратную — данные различных наук, которые способствуют созданию более богатого, достоверного, глубокого образа самой истории (процесса, факта, события, личности). Результат встречного движения особенно ценен, если науки не противопоставляют себя друг другу, а ищут и находят взаимопонимание и взаимодействие. Как метко заметил Л. Н. Гумилёв, «…Клио не следует ссориться с Уранией; на Парнасе [10] места много для всех сестёр» [11].
Редкое историческое научное исследование может отвечать современным требованиям, ес- ли в нём не использованы данные социологии. Между историей и социологией имеется самая прочная «дорожная карта» на том самом «мосту с двусторонним движением». И это не случайно, ведь социология — наука об обществе как целостной системе и об отдельных социальных институтах, процессах, социальных группах и общностях, отношениях личности и общества, закономерностях массового поведения людей.
Отделить историю, особенно её древний и средневековый периоды, чёткой гранью от литературы принципиально невозможно. «Слово о полку Игореве» неизвестного автора (только в XXI веке доказано, что эта рукопись была создана именно в XII веке), «Бородино» М. Лермонтова, «Полтава» А. Пушкина, «Война и мир» Л. Толстого и сотни других литературных произведений являются близкими для исторических дисциплин, не отторжимыми от них.
Предельно близка к истории география. (В былые времена история как предмет нередко изучалась в единстве с географией.)
Огромная часть вопросов по истории, будь то народное хозяйство, войны, культура, политика и т. д., имеет самое непосредственное отношение к политической экономии.
Близка к истории астрономия . Хорошо известно, как ещё в древности люди на море и на суше ориентировались по звёздам, как относились к солнечным затмениям, полнолуниям, «падению звёзд» и т. д. В современных условиях связь истории с астрономией актуализировалась. И не только за счёт деятельности человека в космосе. Причиной тому стала попытка ряда лиц создать «новую хронологию» истории, в том числе на основе искусственной увязки астрономических данных о солнечных затмениях, приливах и отливах и других явлениях с историческими событиями многовековой давности.
Важно, чтобы межпредметные связи осуществлялись по делу и по месту, то есть вокруг ведущих исторических положений исследования.
Принцип историзма обеспечивает реализацию философского аспекта истории. Как писал лорд Г. Болингброк, «. „ история — это философия, которая учит нас с помощью примеров» [12].
Философия истории всё полнее вливается в собственно историю как неотъемлемая составляющая. Все принципы научного исследования настоятельно требуют признать статус «философии истории» как очень близкого родича исторической науки, связанного тысячами единых капилляров и кровяных артерий. Возможно лишь условное разделение труда между истори ками и философами истории, и видится оно таким: историки исследуют то, что было «внутри истории», философы истории размышляют «об истории». Но реализовать то и другое доступно только через методологию. Так что однозначно и жёстко разграничить по специализациям теорию, философию и методологию практически не удастся, ибо всё, прямо или косвенно, базируется на истории.
Карр Э., зарубежный специалист по истории СССР, призывал коллег осознать необходимость использовать в своих исследованиях философию истории, считая, что «…историки, которые и сегодня пытаются обойтись без философии истории, напоминают нудистов, тщетно и цинично стремящихся воссоздать райские кущи Эдема в наших садовых пригородах» [13].
Предметом философии истории предлагают считать следующий смысловой продукт (приближенно): «Философия истории отвечает на вопрос об объективных закономерностях и духовно-нравственном смысле исторического процесса, о путях реализации человеческих сущностных сил в истории, о возможностях обретения общечеловеческого единства» [14].
Историки и философы порой дотошно ищут отличия между философией истории и наукой истории, некоторые находят их в чем угодно, но не в предмете, а предмет-то один — исторический процесс.
Реализация принципа историзма позволяет выявить тенденции исторического процесса, сформулировать уроки, рекомендации практического характера. В недалёком прошлом советские учёные, за редким исключением, в один голос утверждали, что движение истории происходит на основе всеобщих законов.
Законы и закономерности искали (и «находили»). Но общественно-политическая практика конца XX — начала XXI века ещё раз подтвердила, что в развитии истории нет жестких, продолжительных по времени законов.
Со второй половины 1980-х гг. стал разрастаться методологический вакуум, который, как известно, длительно незаполненным оставаться не может. В него были направлены потоки лженаучных, порой шарлатанских, под умным видом, конечно, «идей», подгоняемых под тенденции, закономерности и т. д. Часть историков, возможно, от безысходности, стала отдавать предпочтение предсказаниям и пророчествам. Необходимо, считали они, изучать их, и на поверхность сами всплывут обычно трудно поддающиеся выявлению законы, закономерности, тенденции. К предсказаниям и предвидениям исследователи относятся с научной осторожностью, поскольку и тех и других не так уж и много, чтобы вывести из них какое-то определённое влияние на историческую науку, да и как они вырабатывались — нам неведомо.
У серьёзного историка своя задача: его исследование превращается в «родильный дом», где на научной основе получают путёвки в жизнь тенденции, уроки, практические рекомендации.
Тенденция — направление развития какого-либо явления или процесса [15]. В одном и том же явлении могут содержаться различные и даже противоположные друг другу тенденции.
Выявление тенденций требует значительной строгости, и если её не соблюсти, неизбежны ошибки.
При выявлении тенденций историк избегает глагольной категории, выражающей действие, которое он считает возможным или желательным. Сослагательное наклонение вообще неприемлемо для истории. Ибо никому не дано определить: что было бы с Русью, выиграй Мамай, а не Дмитрий Куликовскую битву; что стало бы с РСФСР, если бы Ленин умер не в 1924 году, а прожил бы еще лет 15—20; что было бы с СССР, если бы первым лицом страны стал не Горбачёв, а кто-то другой, и т. д.
«Сослагательного соблазна» не выдержал даже А. И. Солженицын. В своих «Размышлениях над Февральской революцией» он буквально склонил седую бороду перед «если бы» и «бы»: «…если бы ( выделено авт. ) в ночь на 3 марта не задержали первого манифеста и уже вся страна и армия знали бы , что Михаил — император, потекло бы что-то с проводов, донёсся бы голос каких-то молчаливых генералов, Михаила уже везде бы возгласили, в иных местах и ждали б , и он иначе мог бы разговаривать на Миллионной». И далее: «Прибудь Михаил в Могилёв, — конечно, Алексеев подчинился бы ему» [16].
Тенденции носят научный характер лишь тогда, когда, во-первых, они очевидны, во-вторых, из них вытекают выводы, в-третьих, на их основе можно выработать «что делать?», т. е. обосновать практические рекомендации.
Каждый историк при исследовании проблемы стремится из входящих в тему событий, сформулированных на их основе тенденций извлечь определённые выводы и уроки. Уроки выводятся как из положительных событий, так и из событий, приводивших страну к остановке в развитии, к поражению, провалу. Уроки — это выводы, знания, полезные на будущее [17]. Они носят конструктивный характер, исключают надуманность, гипервыводы и т. п.
Заключительным аккордом работы над темой (проблемой) является выработка научнопрактических рекомендаций . На этом этапе историк выступает в роли Прометея, похитившего с неба огонь и научившего людей им пользоваться. Только у исследователя вместо огня — новые знания.
Исследователи разрабатывают и советы, и пожелания, и предложения, но вряд ли могут давать указания. Тем не менее большинство диссертационных рекомендаций выливается в предложения кому-то (издательству, чиновникам, даже министерствам и т. д.) что-то сделать (учесть, провести, проследить, опубликовать, ввести и т. д.). Недопустимо мало предлагается рекомендаций по реальному воплощению исторического опыта в воспитание патриотизма, проведение политических и военных реформ, по борьбе с бюрократией, коррупцией, терроризмом, укреплению дружбы между народами, обеспечению социальной справедливости и т. д. Нынешнее время позволяет изменить оценочные показатели, предъявляемые к практическим рекомендациям диссертантов. Данный жанр исследования по ряду тем (проблем) может носить абсолютно конкретный, прикладной характер и быть полезным обществу и армии.
Подводя итоги обоснования структуры и системы принципа историзма, мы можем сделать вывод, что соблюдение его основных критериев, следование ему через весь исторический процесс (в хронологических рамках исследования) в связях и опосредованиях является той матрицей, наполнив которую содержательным теоретическим и фактологическим материалом, исследователь в результате выдаёт труд, полезный науке и практике.
-
1. Словарь иностранных слов. СПб., 2005. С. 255 .
-
2. Советский энциклопедический словарь. М., 1986. С. 511.
-
3. Философский словарь / под ред. М. М. Розенталя. М., 1975. С. 158.
-
4. Российский энциклопедический словарь : в 2 кн. М., 2001. Кн. 1. С. 599.
-
5. См.: Степанищев А. Т. История: методология научного исследования и преподавания. М., 2009.
-
6. Ленин В. И. Полн. собр. соч. : в 55 т. Т. 39. С. 67.
-
7. С первой находкой берестяной грамоты повезло колхознице Н. Ф. Акуловой 26 июля 1951 г.
-
8. Древнерусские предания. М., 1982. С. 22.
-
9. Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. СПб., 1910—1913. Вып. 1—2. С. 333—334.
-
10. В греческой мифологии: Клио — одна из 9 муз, покровительница истории; Урания — одна из 9 муз, покровительница астрономии; Парнас — место обитания олимпийского бога Аполлона и муз.
-
11. Гумилёв Л. Н. Конец и вновь начало. М., 1994. С. 417.
-
12. Болингброк Г. Письма об изучении и пользе истории. М., 1978. С. 11.
-
13. Карр Э. Историк и факты // Современные тенденции в буржуазной философии и методологии истории. М., 1969. Ч. 1, 2. С. 24.
-
14. Философия истории : учеб. пособие. М., 2001. С. 8.
-
15. Словарь иностранных слов. С. 640.
-
16. Литературная газета. 2007. 23—29 мая. № 21.
-
17. Словарь русского языка : в 4 т. М., 1988. Т. 4. С. 513.
Список литературы Принцип историзма в современной исторической науке
- Словарь иностранных слов. СПб., 2005. С. 255.
- Советский энциклопедический словарь. М., 1986. С. 511.
- Философский словарь/под ред. М. М. Розенталя. М., 1975. С. 158.
- Российский энциклопедический словарь: в 2 кн. М., 2001. Кн. 1. С. 599.
- Степанищев А. Т. История: методология научного исследования и преподавания. М., 2009
- Ленин В. И. Полн. собр. соч.: в 55 т. Т. 39. С. 67.
- С первой находкой берестяной грамоты повезло колхознице Н. Ф. Акуловой 26 июля 1951 г.
- Древнерусские предания. М., 1982. С. 22.
- Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. СПб.,
- В греческой мифологии: Клио -одна из 9 муз, покровительница истории; Урания -одна из 9 муз, покровительница астрономии; Парнас -место обитания олимпийского бога Аполлона и муз.
- Гумилёв Л. Н. Конец и вновь начало. М., 1994. С. 417.
- Болингброк Г. Письма об изучении и пользе истории. М., 1978. С. 11.
- Карр Э. Историк и факты//Современные тенденции в буржуазной философии и методологии истории. М., 1969. Ч. 1, 2. С. 24.
- Философия истории: учеб. пособие. М., 2001. С. 8.
- Словарь иностранных слов. С. 640.
- Литературная газета. 2007. 23-29 мая. № 21.
- Словарь русского языка: в 4 т. М., 1988. Т. 4. С. 513.