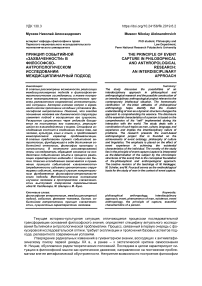Принцип событийной "захваченности" в философско-антропологическом исследовании: междисциплинарный подход
Автор: Мусеев Николай Александрович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 6, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены возможности реализации междисциплинарного подхода в философско-антропологическом исследовании, а также построения межотраслевого антропологического проекта, релевантного современной интеллектуальной ситуации. Автором изложен вопрос о герменевтическом прояснении исходных установок философской антропологии. Показано, что сегодня понимание человека как динамической структуры изменяет подход к восприятию его сущности. Раскрытие сущностных черт индивида базируется на постижении его «самости», реализующейся во взаимодействии с миром. Специфика исследования состоит в соединении таких тем, как человек, культура, язык и опыт, и предполагает межотраслевой характер проблематизации. В статье представлен проект событийной антропологии, фундирующей в себе достижения событийной онтологии, философии культуры и лингвистики. В контексте рассматриваемой темы исследователь обращает внимание на воздействие событийного опыта в процессе реализации характеристик индивида с позиции его бытия. Новизна исследования заключается в применении принципа событийной «захваченности» (определенности субъекта хронотопными структурами события), который служит концептуальным фундаментом философско-антропологического подхода. Методологическим основанием изучения человека в пространстве «захваченности» выступает творческое переосмысление идей М. Хайдеггера, М. Шелера и М. Фуко.
Философская антропология, междисциплинарный подход, событие, феномен человека, бытие, событийная антропология, принцип "захваченности", сущностные характеристики человека
Короткий адрес: https://sciup.org/149133992
IDR: 149133992 | УДК: 130.3 | DOI: 10.24158/fik.2019.6.2
Текст научной статьи Принцип событийной "захваченности" в философско-антропологическом исследовании: междисциплинарный подход
Текущая историко-культурная ситуация, отличающаяся процессом последовательной трансформации оснований философского знания, определяет специфику актуального исследования бытийной и антропологической проблематики. Процесс, связанный в первую очередь с фокусировкой исследовательской оптики, требует экспликации и прояснения базовых аспектов подхода, релевантного современным условиям.
Утверждение радикальных изменений в гуманитарном знании, восходящих к антиметафи-зическому поиску первой декады XX в., а ранее – к экстатической критике самосознания Ф. Ницше, обусловлено рядом теоретических положений. Последние в целом характеризуют ситуацию в философской мысли как критическое движение, направленное на постижение проблематики вне ее метафизической обустроенности. Неприятие возможности построения философии как учения, покоящегося на догматическом фундаменте категориальной аксиоматики, определило доминанты современной «науки о бытии».
Критическое движение обращено, с одной стороны, к исследованию экзистенциального опыта человека, с другой - к утверждению приоритета различия перед тождеством. Доминация различия проявляется как в формальной структуре языка, так и в деструкции базовых смысловых общностей, определивших исследовательское пространство, а также способ человеческого существования в «большой культуре». Не раскрывая подробно историко-философские особенности процесса трансформации, отметим, что он напрямую связан с некоторыми фундаментальными «поворотами» в континентальной и англо-саксонской мысли, установившими новые смысловые ориентиры постижения человека и реальности.
В связи с этим проблема человеческого бытия в XX в. обрела бытийную остроту. Д.Ю. Дорофеев подчеркивает: «Человек здесь не просто становится центром философских исследований… а, так сказать, обретает институализированную легитимацию в виде отдельной области философского знания, которая решительно заявляет свои права на статус prima philosophia (первой философии)» [1, с. 3]. Окончательное выявление основополагающей структуры человеческого бытия обернулось несбыточной мечтой об обладании последней истиной, настолько недостижимой, что индивид оказался заложником спекулятивной науки, претендующей на систематически развернутое, но будто герметично запертое пространство, где человек предстает «дистиллированным» объектом [2, с. 27]. В историко-философском контексте это обстоятельство определило перемещение антропологической проблематики к компетенции философии.
Однако исходная интенция, обозначенная основоположниками философской антропологии, уже содержала в себе критическое зерно, необходимое для построения исследовательской программы в духе времени. В частности, М. Шелер, объявляя задачи философско-антропологического исследования, призывал к систематическому объединению знаний о человеке под видом ( sub specie) философии и теологии, проясняющих его единую метафизическую сущность. Он писал об осуществлении некоего синтеза, объединяющего разрозненные представления о человеке [3]. Буквальное принятие данного положения привело к мифологизации проекта философской антропологии, направленного на выявление предельного инварианта неизменяемой сущности индивида. Конечно, искомый инвариант недоступен реальному определению, а реализация претензии на систематическую завершенность остается недосягаемой.
Наш экскурс в историю возникновения философской антропологии направлен не на разоблачение мифа о возможностях страстного человеческого поиска предельных оснований собственного бытия. Он служит очередной попыткой проблематизировать человека и сферу его существования в качестве основания для философского исследования актуальных проблем. Если прежний проект - с задачами, претендующими на прояснение метафизики человека, - оказался несостоятельным, то необходимо снова обратиться к исходным тезисам, не откладывая разбор сложностей в долгий ящик. Попытка, как нам кажется, впоследствии обернется неожиданной возможностью, ключом к одной из запертых прежде дверей, ведущих к построению науки « о сущности и сущностной структуре человека » [4, с. 70].
Анализ учений, объединенных под общей рубрикой «философская антропология», позволяет сделать вывод о том, что проект не обладал четким планом и общей программой исследования, а базировался, вероятно, на универсальной идее систематического объединения результатов постижения человека, достигнутых гуманитарными и естественными науками. По мнению Д.Ю. Дорофеева, учение позднего Шелера - это не манифестация всеохватывающего учения, а попытка «создать некую метафизическую картину человеческого бытия в его отношениях с Богом, природой, миром» [5, с. 5]. Рукописи и исследования свидетельствуют о своеобразном понимании мыслителем ряда философских вопросов, но не претендуют на универсальность программы. Непреходящая актуальность антропологического проекта состоит прежде всего в проблематизации человека, его погружении в стихию философского толка. Интерес к человеку в иных направлениях научной мысли начала XX в. (феноменологии, фундаментальной онтологии и др.) определил в итоге общую направленность поисков мыслителей, а именно: рассмотрение ключевых вопросов философии в связи и через обращение к человеку. Последний, таким образом, выступил как тема, в контексте которой находит отражение постановка центральных философских вопросов - о бытии, ценностях, языке, традиции и др. К тому же эти вопросы не сводятся только к человеку.
Итак, развенчание мифа о возможности построения систематического учения о человеке, представленного под общей рубрикой «философской антропологии», открывает новые горизонты, где значимость обретают исследования по философско-антропологической проблематике. Это положение позволяет выявить междисциплинарный характер современного антропологического знания. Принцип межотраслевого исследования изначально находился у истоков философско-антропологического учения, но позднее был загроможден романтическими установками эпохи модерна. Соответствующая проблематизация не означает, что в приоритете - исследование человека. В большей степени она указывает на возможность разработки той или иной темы без необходимости посягательства на значимость других достижений, учитывая, что сфера реализации человека широка. Так, понятие «философия человека» влечет движение одновременно по всем направлениям философского знания.
На наш взгляд, антропологическая проблематика исключает построение замкнутой системы, спекулятивным путем рисующей категориальную диалектику сущностных свойств человека. Она должна не замыкаться на одной сфере, а выходить к целостной реализации философского исследования во всей его полноте. Сложившаяся ситуация восходит к трансформации гуманитарного знания, более не принимающего замкнутой в себе неизменяемой сущности человека. Современность позиционирует человека в качестве динамической структуры , открытой навстречу другому (как таковому), понимает его как активную личность . Трансформация способов человеческого бытия (изменение форм его самоидентификации и конституирования), эмансипация чувственности, а также расширение сферы опыта с позиции философии переориентируют вопрос о том, что есть человек, в вопрос о способах его бытия ( как ). Это предполагает актуализацию междисциплинарного поля исследования. В центре такого поля по-прежнему находится человек, открывающий многомерность мира в языке, континууме традиции и личном опыте [6]. Раскрытие сущностных черт индивидуальности сегодня - это не погружение в субстанциальность «самости» человека, а ее постижение в процессе реализации различных форм человеческого взаимодействия с миром, в конкретизации многообразия деятельности.
Комплексный характер философско-антропологического исследования, отраженный в междисциплинарном подходе, направлен на творческое соединение проблем нескольких научных областей. Это соединение и обусловливает возможную специализацию подхода, выступающего в качестве исследования по антропологической проблематике и не претендующего на спекулятивную тотальность. Данный принцип реализуют в своих трудах отечественные (Д.Ю. Дорофеев, Б.В. Марков, В.А. Подорога) и зарубежные ученые (Дж. Агамбен, Х.У. Гумбрехт, П. Слотердайк), выстраивая оригинальные подходы к изучению бытийных черт человека и способов его существования в пространстве культуры. Учет взаимосвязи научных областей, объединенных в том или ином исследовательском проекте, расширяет его герменевтический горизонт.
В основе очевидной междисциплинарности - выявление и решение ряда так называемых стыковых проблем, что и определяет инновационность научных программ. Однако межотраслевой подход не может быть реализован путем механического соединения разрозненных тем, бессодержательным постулированием единства. Он исходит из некоей узловой точки, сопрягающей проблемное поле в едином бытийно-смысловом пространстве. Поэтому специфика философско-антропологической проблематики фундирует в себе соединение таких тем, как человек, культура, язык, а также сферу опыта (во всей его полноте). Универсальность дает возможность использования результатов в иных научных областях (социологии, психологии или педагогике), их применения в сферах духовной и материальной деятельности.
Сегодня в контексте исследований о смысловой многомерности понятия «человек», сосуществовании множества несоизмеримых моделей его понимания прослеживается внутренняя связь истолкования человека и способов его бытия в культурной ситуации. В настоящее время формально-техническое отношение к миру влияет на изменение подхода к онтологии человеческого существа и сфере его существования. Невольно возникают вопросы о том, исчерпывает ли способ повседневного бытия человеческое бытие как таковое или оно указывает на одну из форм его существования, скрывающего сущностные характеристики человека, и ряд других. Они побуждают к выявлению особенностей различных форм бытия, реализующихся в иных, нежели повседневность, модусах существования. В целях поиска ответов на эти проблемные вопросы необходимы дополнительные исследования тех или иных форм опыта, открывающегося в таких сферах, как религия, политическое действие, искусство, философское мышление и др.
Принимая во внимание особенности, связанные с изучением человека с точки зрения осмысления способов его бытия, логично утверждать, что пространством, на поле которого возможна реализация междисциплинарного исследования, выступает онтология. В рамках современного дискурса особое место занимают событийные онтологии. Теме события посвящены работы М. Хайдеггера, А. Уайтхеда, Ж. Делеза, А. Бадью [7] и др. В целом «событийная онтология (event ontology) является возможностью понять онтологическую разницу как онтологическую идентичность бытия и сущего в событии; событийность является конфигурацией границы между онтологическим и онтическим» [8]. Актуализация темы события в философско-антропологическом исследовании позволяет сосредоточиться на влиянии событийного опыта в аспекте реализации сущностных характеристик человека. В событии он оказывается на границе собственного существования, способен реализовать скрытые в повседневности силы и умения. Ввиду этого актуальность приобретает вопрос разработки проекта событийный антропологии, предполагающего исследование раскрывающихся в событийном опыте характеристик человека с точки зрения его бытия.
Событийная антропология исходит из рассмотрения человека, погруженного в событийный опыт . Назовем это погружение событийной «захваченностью» . Слово «захваченность», по нашему мнению, – это пребывание внутри события, спровоцированного теми или иными «бытийными операторами» (т. е. формами , изымающими человека из потока усредненной повседневности, к которым относятся произведение искусства, религиозный ритуал и др.). Концепт «захва-ченность» целесообразно понимать как определенность субъекта внутренними структурами события. Принцип событийной «захваченности» служит узлом междисциплинарного философско-антропологического исследования; он сочетает в себе как экзистенциальную (онтологическую) проблематику, так и опыт индивидуальной жизни, реализуемой в пространстве культуры (бытия, укорененного в «жизненном мире» традиции). В ходе поиска сущностных черт человеческого существования гносеологический аспект уступает место вопросу о содержании опыта, который неотделим от реальной жизни индивида. Именно в опыте отношения к действительности, реализуемого в событии, проблема человеческого существования обретает бытийную звучность.
Специфика событийной антропологии, таким образом, заключается в истолковании действительности и человека, рассматриваемых в непосредственной данности мира в событии, модифицирующем способ человеческого существования. Эта специфика позволяет, с одной стороны, раскрыть новые аспекты антропологической проблематики (вне категориальной привязки к классической метафизической традиции), с другой – свести онтологические, гносеологические и культурологические подходы к исследованию феномена человека в единый комплекс философско-антропологического знания.
Характеризуя методологические основания проекта, отметим, что в его реализации определяющее значение имеет экзистенциально-феноменологический подход, ориентированный на дорефлексивный опыт. Междисциплинарная матрица строится на творческом переосмыслении философии М. Хайдеггера, М. Шелера и М. Фуко. Несмотря на различие подходов М. Хайдеггера и М. Шелера, общая направленность к преодолению трансцендентализма метафизической традиции является своего рода сигналом к объединению их с учетом идеи М. Фуко о преобразующем влиянии «культурных практик» на бытие субъекта [9]. Реализовать подобный подход возможно благодаря конкретным приемам феноменологии и герменевтики. Обращение к понятию события (принципу событийной «захваченности») необходимо при прояснении той или иной культурной «практики» (обусловливающей ситуацию событийной «захваченности») и способа человеческого существования в событии.
В заключение нельзя не сделать выводы о том, что событийная антропология, базирующаяся на принципе «захваченности» и реализуемая как междисциплинарное исследование, представляет собой сложный теоретический узел. На наш взгляд, перспективный путь осуществления такого подхода состоит в обращении к опыту, реализуемому в пространстве искусства (шире – эстетического отношения к миру, вещи, сущему). Программа философского подхода к исследованию поля искусства изложена нами в теоретическом очерке «Онтология прекрасного: методологический проект» [10]. Специфика подхода заключается в погружении эстетической проблематики в онто-герменевтическое и философско-антропологическое пространство рассмотрения. Антропологическая проблематика находит отражение в исследовании способа эстетического бытия в мире, противостоящего усредненному бытию в горизонте «обезличенного» ( das Man ). Более того, данное исследование может обладать практической значимостью, поскольку на его базе допускается не только истолкование существующих практик, но и разработка дополнительных приемов и способов существования. Последние позволяют «укорениться» в бытии, т. е. обрести основание для совершения должного поступка в отношении другого (человека, природы и мира как такового), а также недостающую «полноту бытия» в мире формально-технического отношения, обусловленного эпохой Постава ( Gestell ).
Ссылки:
Список литературы Принцип событийной "захваченности" в философско-антропологическом исследовании: междисциплинарный подход
- Дорофеев Д.Ю. Суверенная и гетерогенная спонтанность: философско-антропологический анализ. СПб., 2007. 669 с
- Юнгер Ф.Г. Язык и мышление: пер. с нем. СПб., 2005. 300 с
- Шелер М. Избранные произведения. М., 1994. 490 с
- Шелер М. Избранные произведения. М., 1994. С. 70.
- Бибихин В.В. Слово и событие. Писатель и литература. М., 2010. 403 с.
- Бразговская Е.Е. Чеслав Милош: язык как персонаж. М., 2012. 176 с.
- Савруцкая Е.П., Семенов Д.В. Культурные коды конструирования новой культурно-коммуникативной реальности // Единая российская нация: проблемы формирования ее идентичности: сб. ст. участников Всероссийской науч.-практ. конф. / отв. ред. С.В. Напалков. Саров, 2017. С. 38-41
- Gumbrecht H. Atmosphere, Mood, Stimmung: On a Hidden Potential of Literature. Stanford, 2012. 149 p.
- Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. М., 1993. 447 с.
- Whitehead A.N. Process and Reality. N. Y., 1978. 413 p.
- Badiou A. Being and Event. L., 2005. 526 р.
- Романенко Ю.М., Лебедев С.П. Актуальность событийной онтологии [Электронный ресурс] // Общество: философия, история, культура. 2015. № 6. С. 10-12. URL: http://dom-hors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/-fik/2015-6/philosophy/romanenko-lebedev.pdf (дата обращения: 11.04.2018)
- Фуко М. Герменевтика субъекта: курс лекций, прочитанных в Колеж де Франс в 1981-1982 учебном году. СПб., 2007. 682 с
- Железняк В.Н., Столбова Н.В., Мусеев Н.А. Онтология прекрасного: методологический проект // Культура и искусство. 2017. № 3. С. 31-40.
- DOI: 10.7256/2454-0625.2017.3.23146