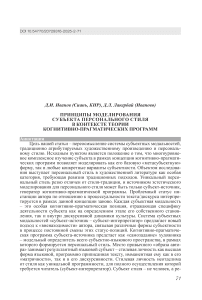Принципы моделирования субъекта персонального стиля в контексте теории когнитивно прагматических программ
Автор: Иванов Д.И., Лакербай Д.Л.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 2 (73), 2025 года.
Бесплатный доступ
Цель нашей статьи - переосмысление системы субъектных модальностей, традиционно атрибутируемых художественному произведению и персональному стилю. Исходным пунктом является положение о том, что многоуровневое комплексное изучение субъекта в рамках концепции когнитивно прагматических программ позволяет моделировать как его базовую «метасубъектную» форму, так и любые конкретные варианты субъектности. Объектом исследования выступает персональный стиль в художественной литературе как особая категория, требующая ревизии традиционных подходов. Уникальный персональный стиль резко отличен от стиля традиции, и источником эстетического моделирования для персонального стиля может быть только субъект источник, генератор когнитивно прагматической программы. Проблемный статус инстанции автора по отношению к процессуальности текста/дискурса интерпретируется в рамках данной концепции заново. Каждая субъектная модальность - это особая когнитивно прагматическая позиция, отражающая специфику деятельности субъекта как на определенном этапе его собственного становления, так и внутри дискурсивной динамики культуры. Система субъектных модальностей «субъект источник - субъект интерпретатор» предлагает новый подход к «вненаходимости» автора, связывая различные формы субъектности в процессе постоянной смены этих статус позиций. Когнитивно прагматическая программа субъекта источника предстает как «самозадание» художника - модельный определитель всего субъектно языкового пространства, в рамках которого формируется персональный стиль. Место привычного «образа автора» занимает результантный языковой субъект - стилевая личность как высшая форма языковой, программно приписанная тексту, имманентная ему как в его «матричности», так и в его дискурсивности. Стилевая личность неотделима от стиля как уникальной программности, для полного осуществления которой требуется читатель (субъект интерпретатор). Субъект стиля - не человек, а результантный текст, т. е. информация о личности, взятой в аспектах а) уникальной самореализации, б) программно генерирующей функции.
Персональный стиль, источник эстетического моделирования, когнитивно прагматическая программа, субъект источник, субъект интерпретатор, «вненаходимость», субъект стиля
Короткий адрес: https://sciup.org/149148633
IDR: 149148633 | DOI: 10.54770/20729316-2025-2-71
Текст научной статьи Принципы моделирования субъекта персонального стиля в контексте теории когнитивно прагматических программ
Personal style; source of aesthetic modeling; cognitive-pragmatic program; subject-source; subject-interpreter; “non-attachment”; style subject.
Введение. Целью нашей статьи является переосмысление системы субъектных модальностей, традиционно атрибутируемых художественному произведению и соответственно персональному (индивидуальному) стилю: «автор», «образ автора», «вненаходимый автор» – и др. Творящий субъект, являющийся «законодателем» (субъектом-источником) персонального стиля, – яркий при- мер «ускользания» из сетки литературоведческих категорий как одна из инстанций неуловимого «автора».
Для нового решения проблемы мы привлекаем теорию когнитивно-прагматических программ (КПП) – ядро метадисциплинарной когнитивной гуманитарной семиотики (КГС), созданной нами с целью исследования и моделирования сложных (гетерогенных, гибридных) объектов культуры и аккумулирующей достижения ряда смежных гуманитарных наук [см.: Иванов, Лакербай 2020]. В частности, концепция КПП дает возможность многоуровневого комплексного (объектно-срезового, персонификационно-статусного и др.) лингвокогнитивного моделирования субъекта любой осмысленной и целенаправленной деятельности, сколь бы сложной она ни была. Изучение субъекта в рамках теории КПП позволяет моделировать как его базовую «метасубъектную» форму, так и конкретные варианты. Это в полной мере относится и к проблеме стиля. Обозначим ее основные параметры.
Специфика моделирования персонального стиля художника слова. Уже общеязыковое содержание понятия «стиль» сигнализирует, что оно не может быть без уточнений ограничено объектно («стиль мышления», «стиль писателя», «стиль плавания», «стиль одежды», «стиль эпохи» – и др.). Стиль персональный (т.е. ассоциируемый с конкретной персоной; более точное наименование) – зримая воплощенность эстетического в и дения конкретного субъекта ( субъекта-источника оригинальной КПП), уникальный художественный принцип и его реализация одновременно (органическое единство идейно-конструктивного принципа и «фактуры» – «каково внутри, таково и снаружи, и наоборот» [Михайлов 1997, 473]. Поэтому стиль тотален на уровне морфогенеза, характер которого заранее (безлично, схематично) не задан – порождение стиля возможно из любой зоны формотворческой активности и определяется свойствами субъекта-источника в его взаимодействии с языком, а не типовым набором «факторов», «носителей» и т.п.
Необходимо разграничивать имеющий много разновидностей стиль-традицию (то, что приходит к писателю из арсенала культуры, и то, что является «коллективной» характеристикой) и стиль индивидуальный (персональный) . Источником эстетического моделирования для персонального стиля может быть только конкретный субъект творчества – но как моделировать уникальное? Персональный стиль – очеловеченность художественной формы, о специфике которой писал М. Бахтин: «…я должен пережить себя в известной степени – творцом формы, чтобы вообще осуществить художественно значимую форму как таковую. В этом – существенное отличие художественной формы от познавательной; эта последняя не имеет автора-творца…» [Бахтин 2003, 312]. «Стиль-традиция» – именно «познавательная форма»: элементы традиции «активны, но не чувствуют своей активности» [Бахтин 2003, 312], являются готовыми средствами и результатами познания , что резко отличает стиль-традицию от персонального стиля.
Стилевой принцип регулирует стилевое единство, но при этом создает трудности для «компонентного» моделирования – стиль внутренне одухотворен «невербализуемыми принципами, идеалами, идеями, творческими импульсами <…> Если нет этой одухотворенности, стиль исчезает. Остаются только его внешние следы: манера, система приемов» [Бычков 2004, 284]. Это очень важный момент: «манера», т.е. внешняя узнаваемость фрагментов текста, может наличествовать, например, у умелого журналиста и, напротив, быть не так ярко проявлена в тексте гения. Вспомним гетевское разграничение: стиль, в отличие от манеры, «покоится на твердынях познания» [Гёте 1980, 28]. Иными словами, эстетическое восприятие стиля не связано исключительно с «узнаваемостью строк», а требует прочувствовать «очеловеченность формы» как таковой и задаться вопросами природы этой очеловеченности, а не искать ответ в чисто лингвистической ощутимости. С этим связан и обычный «неуспех» подражателей: можно заимствовать манеру, но не личностную воплощенность.
Субъектно обусловленная уникальность является единственным дифференцирующим качеством персонального стиля – иначе мы рискуем потерять предмет исследования. Однако уникальность не распространяется (автоматически) на компоненты стиля; напротив, он в основном складывается из элементов стилей-традиций – уникален набор и способ их организации. Так работает сам механизм культуры, обеспечивая постоянное возникновение оригинальных, но «производных» программ (оригинальность – следствие сильной позиции талантливого субъекта-интерпретатора ) на основе богатства уже имеющихся когнитивно-прагматических программ культуры. Стиль может формироваться даже из «противонаправленных» элементов – так, стиль Льва Толстого выступает именно как перманентная беспощадная борьба «пласти-чески-изобразительной» и «аналитической» тенденций, лишающая его «гармоничности» (вплоть до «неудобоваримого» синтаксиса с нагнетанием союзов), но обеспечивающая уникальный художественный эффект [см.: Гей 1977, 139–150].
Художественный текст – объект различных дисциплин, конституируемый в рамках их формализованных дискурсивных практик. Значительный прогресс достигнут в области лингвопоэтики, связанной с опорными понятиями идиолект и идиостиль . Последний вариативно соотносится с понятиями языка, текста, языковой личности, может быть охарактеризован и со структурной («глубинная структура»), и с функционально-доминантной («система доминант») сторон.
Однако идиостиль, по сути, уже требует междисциплинарного анализа. Так, Н.А. Фатеева постулирует идиостиль как систему гетерогенных «метатропов» – «это стоящие за конкретными языковыми образованиями (на всех уровнях текста) глубинные функциональные зависимости, структурирующие модель мира определенного автора» [Фатеева 2007, 54]. В авторский «код иносказания» включается экстралингвистическое: мифологизированные личные ситуации, концептуальные установки, система композиционных функций и др. Но и набор метатропов не исчерпывает сущность стиля, так как это попытка лингвистической исходно «дескрипции» системно зафиксировать «не только лингвистическое» явление. Принципиально значима и разница дисциплинарных стратегий лингвистики и литературоведения: первая опирается на языковые единицы и их классы («дискретная» стратегия), вторая – на эстетическое целое («континуальная» стратегия).
На деле термин «идиостиль» оказывается как бы «размазан» между естественным желанием лингвистов перевести изучение стиля на привычную и относительно твердую основу – и пониманием, что «основой» тут не ограничишься: « широкая точка зрения представлена пониманием идиостиля как совокупности лингвистического и экстралингвистического аспектов», и в таком случае идиостиль «может быть определен как “творческая индивидуальность автора плюс языковые средства ее выражения”» [Старкова 2015, 76].
Художественный текст и как коммуникативная единица, и как эстетический объект не является равным себе материальным артефактом, но погружен в движение жизни, поэтому художественная речь произведения – «материальный след» стиля, его языковой коррелят. Соответственно отношение «идио-стиля» к персональному стилю – это отношение конечного к бесконечному: первый исчерпаем и сводим к системе «селекции и комбинации» языковых единиц, второй – нет. «Школьное» понимание стиля как набора художественных средств, готового своеобразия художественной формы приводит к абсурду: стиль гения, стилевая манера умелого журналиста или «второстепенного» автора оказываются в равной методологической достижимости (вплоть до представлений о гарантированной успешности «литературной учебы» и «курсов литмастерства» – реально же можно в той или иной степени научить «ремеслу»).
Известно положение М. Бахтина о «преодолении языка» поэзией: «Язык в своей лингвистической определенности в эстетический объект словесного искусства не входит» [Бахтин 2003, 303]. Однако язык – материал особенный; «преодоление языка» есть его уникальное перевоплощение. Согласно Бахтину, художник развеществляет мир с помощью языка и строит эстетический объект как бы над миром. Но где возникает и как существует эстетический объект? Этот вопрос нужно задать заново: «Где происходит встреча художника и языка?».
«Лингвистическая определенность» языка-материала, «предстоящего» автору, – это теоретическая абстракция: нет «нуля взаимодействия», мы погружены в язык, а он – в нас. Персональный стиль предстает уникальной реализацией творящим субъектом-источником своей программы в особом субъектно-языковом пространстве, пространстве сотворчества языка и человека (снимается дуализм языкового «материала» и эстетического объекта). В коммуникативном аспекте субъект «не встречается» с языком, а просто использует; специально «встречается» с языком писатель, и вне этой встречи литература и писатель немыслимы. Персональный стиль («другое» языка) и есть авторский способ жить и строить себя в языке, «живой памятник» языка человеку .
Априорное условие полноценного моделирования персонального стиля – реципиент должен воспринять произведение как эстетический объект. То, что со стороны субъекта-источника мы можем назвать процессом запечатления , со стороны текста – процессом наследования , со стороны персонального стиля видится рождением новой субъектности текста в итоге действий «авторизуемого» субъекта-интерпретатора : «Стилистическое единство создается совместно творцом произведения и его читателем, зрителем, слушателем. Автор произведения искусства сообщает тому, кто его произведение воспринимает, некий стилистический ключ» [Лихачев 2001, 68].
«Автор» / «субъект стиля» как лакуна строгого моделирования. Лингвостилистическая традиция исходит из «фиксации» автора в речевом строе текста. «Образ автора» предстает как «концентрированное воплощение сути произведения, объединяющее всю систему речевых структур персонажей в их соотношении с повествователем, рассказчиком или рассказчиками и через них являющееся идейно-стилистическим средоточием, фокусом целого» [Виноградов 1971, 118]. Однако уже в этой формулировке мы видим не только термины поэтики, но и «философическое» словоупотребление (суть произведения, идейное средоточие, фокус целого). Не случайно М. Бахтин, настаивая на «вненаходимости» автора, называл «внедрение» автора или «диалога» во «внеличностную» лингвистическую системность «контрабандой», считая это возможным «только при условии нелингвистического подхода к ним, т. е. при условии трансформации их в “мировоззрения” … в “точки зрения”, в “социальные голоса” и т.п.» [Бахтин 1997, 329].
Структурализм сместил акценты (субъект находится не в фокусе анализа), а постструктурализм развенчал картезианское положение о безусловности познающего. Условность фигуры автора выявлена в известном эссе Р. Барта «Смерть автора». При всей его политизированной радикальности «телесно са-мотождественный» автор в тексте действительно «исчезает», а обществу часто предлагается мифологизированный масскультурный кумир, условная нарра-ция «по мотивам» гетерогенного жизненного материала и рецепции художественных текстов, атрибутируемых данному лицу. Другое дело, что бартовская модель устраняет не одного, а обоих фигурантов текста (конкретного автора и конкретного читателя) во имя глобально понимаемой «свободы».
Речь идет не о «исчезновении» автора как физического лица, а проблемном статусе инстанции автора по отношению к процессуальности текста / дискурса . «Образ автора», имея отношение к изображенному миру и / или читательскому восприятию (фигура «имплицитного автора» не различает источник текста и результат его восприятия), еще менее правомочен «выступать от имени текста.
Поэтому и современная лингвистическая прескриптивность (образ автора – «универсальный метаобраз литературного произведения, “атомарно” заложенный в текстовых смыслах всех элементов … » [Щирова, Гончарова 2007, 221]) уязвима для критики. Дискурсивность художественного текста, развертывающаяся от программы субъекта-источника до «фактуры» персонального стиля, требующей эстетически чуткого субъекта-интерпретатора , трансформирует и коммуникативный аспект. Между языком коммуникации и «языком писателя» разница качественная : последний представляет собой другое языка. У лингвистов – противоположная , системно-типизирующая точка отсчета: индивидуальность и субъективность автора «детерминированы законами и тенденциями развития литературного языка»; лингвисты пишут о «речевой деятельности субъекта, “отягощенной” эстетическими функциями» [Щирова, Гончарова 2007, 223–224].
Однако это обесценивает эстетический процесс, ведь «эстетическая функция» – не «нагрузка» поверх остального. См. противоположный тезис: для писателей глагол «писать» непереходный (вопросы даже в утверждениях) [Барт 1989, 138]. Транзитивность произведения несамоценна, даже если автор считает иначе (В. Маяковский в статье «Как делать стихи» настаивал на «заказной» утилитарности стихотворения «Сергею Есенину», устанавливая его типологическое родство с агитчастушкой). Прагматика часто зависит от ситуации. Внутреннее же «самозадание» художника – это когнитивно-прагматическая программа его «языковой личности», модельный определитель всего субъектно-языкового пространства , в рамках которого и формируется персональный стиль.
Условный суверенный Автор ( субъект-источник ) и условный суверенный Читатель ( субъект-интерпретатор ) – противоположные интерпретативные центры и сложно коррелируют (у «властителя дум» читатель становится «паствой»; у читателя-критика автор подчиняется прагматике момента; массовый читатель-заказчик и автор-поставщик бестселлеров попадают во взаимное «рабство»). Уникальное речевое произведение процессуально – но процессуальна и субъективность: объективируемая в языке авторская и «воссоздающая» эстетический объект или «волюнтаристская» («наслаждение от текста»)
читательская. «Произведение автора», «речевое произведение», «произведение читателя» разнофазны и разноракурсны (и только последнее существует феноменально ; два других – интеллектуальные (ре)конструкции).
В невозможности определить автора-лицо как субъекта текста сходятся «эстетический традиционалист» Бахтин и постструктуралист Барт. Текст обладает абсолютным диапазоном воплощения авторского начала , вплоть до «смерти автора», то есть невозможности «найти» его ( диада неустранимо-сти / свободы ). Более того, совершенный персональный стиль воспринимается как не требующий никакой фигуры автора. Она, будучи гарантом связности и осмысленности, в то же время контекстуальна, а важность контекстов вариативна. Ощутимая художественная уникальность акцентирует не «персону», а персональный стиль , своего рода подвижное средостение между «умершим» Автором и «авторизующимся» в процессе восприятия Читателем.
Принципы моделирования субъектности персонального стиля . В основе нашего подхода – иное понимание авторского начала, которое в когнитивно-прагматическом аспекте предстает как система субъектных модальностей: субъект-источник – субъект-интерпретатор . В многократной смене их позиций исчезает непроходимая пропасть между понятиями «автор» и «читатель». Каждая субъектная модальность – это особая когнитивно-прагматическая позиция, отражающая специфику креативно-аналитической деятельности субъекта.
Конкретная человеческая субъективность бытийствует отлично от объектов и процессов внешнего мира, не являясь данной заранее. У настоящего художника всегда возникает результантный субъект – ведущая (а не ведомая) творческая самопроекция. При всей «программности» такого субъекта именно он «преодолевает время» и после смерти своего источника способен остаться действующим субъектом культуры . Персональный стиль в таком случае – удостоверитель совершенно конкретной субъектности; важен не исходно , а результантно цельный субъект, т. е. мы смещаем зону его удостоверяемости ( где есть субъект?).
Антитеза персонального стиля и «смерти автора» – формально-логическая: важнее связь, которая и создает культуру. Сама объективация творческого труда, т. е. открывание себя в созданном, имеет отношение к смерти (см. идущее из глубины веков представление: мастер как бы «умирает» в своем изделии, «передавая» ему душу). Стиль есть воплощенная в артефакте проективная субъектность – изобретенный культурой способ умирания, который позволяет субъекту реализоваться в инобытии (субъектности артефакта). Фрагменты бытия становятся индивидуальными человеческими проектами, которые мы храним как собственные имена культуры. Материальная форма стиля может быть разложена на элементы, она объектна (нечеловечна) ; стиль есть дышащая в ней живая выразительность, т.е. человечность формы .
Традиционные модели субъектности не могут представить общие принципы для соединения субъектного основания до-текстового (физический автор, его замысел и т. п.), собственно-текстового (образ автора, имплицитный автор, повествователь, рассказчик, лирический герой и пр.) и после-текстово-го пространств (читатель). Но Текст культуры представляет собой непрерывное становление. То, что для одного порождающего субъекта является до-тек-стовым пространством, для другого будет после-текстовой зоной, и наоборот (так реально работает традиция , включающая процессы передачи, восприятия, усвоения, замены, перекодировки и т. п.).
В рамках нашего подхода граница между этими зонами условна, так как каждый текст генерируется на основе комплексного когнитивного процесса позитивной / негативной интерпретации (разрушении, перекодировки, адаптации, проецировании и т.д.) субъектом одной / нескольких программ или фрагментов программ, уже существующих в пространстве культуры и несущих в себе следы своего генезиса. Иными словами, то, что маркируется для субъекта-интерпретатора термином «автор», представляет собой динамичную суперпозицию «агентов» и их состояний . Поэтому инстанция «автор», необходимая для построения историко-литературного нарратива, не вполне релевантна для аналитической работы. Мы можем называть автора «стильного» текста и субъект-источник, генератор программы (всегда помня его модельную неразрывность с субъектом-интерпретатором ), и источник эстетического моделирования (указывая на аспект стиля).
Модельно становление креативного субъекта (в т. ч. автора «стильного» текста) можно описать так.
-
1. Этап «подключения» к системе программ и ее анализа. В пространстве Текста культуры субъект осуществляет сбор, обработку, интерпретацию, перекодировку одной / нескольких программ. Системы субъектных модальностей в структуре креативного субъекта: субъект-интерпретатор (условно сильная позиция) – субъект-источник (условно слабая позиция) . Источником авторской интенции, с одной стороны, являются внутренние механизмы развития и потенциал таланта, а с другой – подключение к коллективному опыту.
-
2. Этап моделирования базовых подсистем своей программы. Субъект, активизируя свой внутренний потенциал и опираясь на результаты интерпретационных практик «чужих» программ, начинает создавать свою. Происходит смена позиций субъектных модальностей: субъект-источник (условно сильная позиция) – субъект-интерпретатор (условно слабая позиция) . Каждая базовая подсистема когнитивно-прагматических установок (целевая, самоидентифи-кационная, инструментальная) в структуре новой программы может обладать различной степенью оригинальности, и статус-позиция креативного субъекта остается нестабильной.
-
3. Этап моделирования оценочно-результативной подсистемы установок. Здесь статус-позиции субъектных модальностей гармонизируются (стабилизируются). Креативный субъект, с одной стороны, по отношению к своей собственной программе – субъект-источник . С другой, в результате анализа сделанного усиливается позиция субъекта-интерпретатора и возникает баланс: обе субъектные модальности находятся в условно сильной позиции .
-
4. Этап поиска наиболее эффективных способов трансформации своей когнитивно-прагматической программы. Здесь субъект пытается установить причины, по которым одна / несколько целевых установок не реализованы. Как правило, в основе этой аналитики лежит процесс «сканирования» тех когнитивных зон базовых установок, в пространстве которых возникли «когнитивные блоки» – своеобразные «смысловые разрывы». Способы устранения «программных ошибок» креативный субъект может искать как внутри своей программы, так и в пространстве других. В последнем случае статус-позиция субъектных модальностей вновь изменяется: субъект-интерпретатор (условно сильная позиция) – субъект-источник (условно слабая позиция).
Итак, процесс порождения и функционирования авторской интенции непрерывен и связан со сменой субъектных модальностей, поэтому локализация субъектного начала по этим зонам неабсолютна.
Принципиально, что все компоненты чужих программ должны стать частью своего «стилевого тела», иначе исчезает предмет разговора. Должна произойти такая «персонализация» – например, маски романтического героя-бунтаря, или поэта-пророка, и т.п. – чтобы «роль» ощущалась и как часть традиции, и как оригинальный вклад в нее. Полноценная оригинальность «производной» программы «автора» стиля достижима только при персонализации «чужих» концептуальных кодов.
В аспекте персонального стиля важно отметить:
-
– субъекта-источника как бы нет (стиль как воплощенная человечность формы уже не нуждается в фигуре автора), однако «стильный» текст демонстрирует сильную статус-позицию субъектной модальности для попавшего под его воздействие субъекта-интерпретатора («авторизация» читателя в диапазоне от условно слабой до условно сильной статус-позиций субъекта-интерпретатора );
-
– субъекта-источника как бы нет, но одновременно он везде есть (весь текст воплощает его интенции);
-
– персональный стиль берет на себя функции субъекта-источника по трансляции его когнитивно-прагматической программы в максимальном (тотальном) варианте чуткому субъекту-интерпретатору .
Собственно же субъект стиля рождается вместе с текстом, не совпадая ни с кем, в т.ч. с бахтинским первичным автором-завершителем, «неперешедшим» в текст. Каждый из участников диалога писателя и языка осуществляется в этом диалоге и в своей тотальности, и в своей инструментальности. Поэтому автор-в-языке (произведении) дескриптивно не определим, но это и не требуется . Для феноменального восприятия «авторизованности» текста достаточно стиля! А творческий процесс может быть представлен в еще одной условной стадиальности: 1) потенциальный автор – потенциальный язык; 2) автор-в-я-зыке; 3) стиль.
Персональная стильность – главный различитель художественных миров. Художественные миры «реалистов» Тургенева, Толстого, Достоевского (авторов одной языковой эпохи) различны прежде всего потому, что уже на первой стадии различным потенциальным авторам предстоял различный потенциальный язык – будущий язык-место , означающий с момента начала творчества реализацию субъектно-языкового пространства (вторая стадия). Художники творили на одном русском языке (взгляд с т.з. языка), но писать им помогали разные русские языки (взгляд с т.з. художника).
Заключение. Модель субъекта стиля – это модель проекций субъектности в теле текста, зависящая от того, как мы понимаем его природу и границы. Иными словами – это всегда косвенная модель . Лучшей основой для такой модели является многогранная научная метафора «языковая личность». Если а) творчество предстает как совместный субъектно-языковой процесс , б) стиль предстает как результантная субъективность текста , – то место привычного «образа автора» занимает результантный языковой субъект – стилевая личность как высшая форма языковой , программно приписанная тексту, имманентная ему как в его «матричности», так и в его дискурсивности (интерпретативной деятельности реципиента). Используем метафору: когнитивно-прагматическая программа субъекта-источника есть «порт приписки» корабля его стилевой личности.
Поэтому субъект стиля – не человек, а результантный текст, стилевая личность, т.е. информация о личности, взятой в аспектах а) уникальной самореа- лизации, б) программно-генерирующей функции. Представляя собой тотальную реализацию оригинальной программы, персональный стиль для любого адекватного прочтения «генетически» требует и максимального соучастия субъекта-интерпретатора.