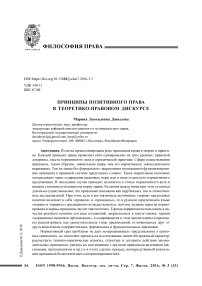Принципы позитивного права в теоретико-правовом дискурсе
Автор: Давыдова Марина Леонидовна
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия права
Статья в выпуске: 3 (33), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализирована роль принципов права в теории и практике. Каждый принцип права проявляет себя одновременно на трех уровнях: правовой доктрины, текста нормативного акта и юридической практики. Сфера существования принципа, таким образом, значительно шире, чем его нормативное, законодательное выражение. Тем не менее без формального закрепления полноценное функционирование принципа в правовой системе представить сложно. Такое закрепление возможно опосредовано через содержание правовых норм или в виде отдельного нормативного предписания. В последнем случае принцип излагается в статье нормативного акта и внешне становится похожим на норму права. Различия между ними при этом остаются довольно существенными, что привлекает внимание как зарубежных, так и отечественных исследователей. При этом, если в англоязычных источниках «норма» как родовое понятие включает в себя «правила» и «принципы», то в русском юридическом языке «норма» и «правило» традиционно отождествляются, поэтому деление норм на нормы-правила и нормы-принципы звучит тавтологично. Гораздо корректнее использовать в качестве родового понятия для всех положений, закрепленных в тексте закона, термин «нормативно-правовое предписание», а содержащиеся в этом законе нормы и принципы рассматривать как самостоятельные типы предписаний, отличающихся друг от друга комплексом содержательных, формальных и функциональных признаков. Нормативный срез проблемы не дает исчерпывающего представления о правовых принципах, но позволяет придать их исследованию менее абстрактный характер, рассмотреть технико-юридические аспекты, структуру и алгоритм действия законодательных принципов, увидеть их соотношение с другими правовыми явлениями (аксиомами, презумпциями и пр.) и в итоге сделать процесс непосредственной реализации принципов более понятным для правоприменителя.
Принцип права, правовая норма, нормативно-правовой акт, презумпция, аксиома, позитивное право
Короткий адрес: https://sciup.org/14974984
IDR: 14974984 | УДК: 340.12 | DOI: 10.15688/jvolsu7.2016.3.5
Текст научной статьи Принципы позитивного права в теоретико-правовом дискурсе
DOI:
Проблема принципов права является традиционной для отечественной теории права. Большинство исследователей сходятся на том, что понятие принципа значительно шире, чем его нормативное, законодательное закрепление. Помимо нормативного текста, принцип существует как идея правосознания, воплощается в системе общественных отношений. В принципах права прямо и непосредственно, в наиболее общем виде и целостном выражении формулируются государственно-правовые закономерности [6, с. 247]. Текстуальное оформление является, поэтому, важной, но не единственной характеристикой принципа права.
Еще в советской юридической литературе было обосновано существование каждого принципа на трех уровнях [7, с. 14; 15, с. 74– 79; 16, с. 194; 19, с. 102]:
-
1) доктринальный – это представления о содержании данного принципа в теории (правовой науке) и в правосознании юристов;
-
2) нормативный – закрепление принципа в тексте закона в виде самостоятельного нормативного предписания или опосредовано через содержание правовых норм;
-
3) социологический – реализация принципов права в конкретной сфере общественных отношений, воплощение в определенном правопорядке.
Предполагается, что принцип зарождается как определенная идея в теории, закрепляется в системе правовых норм и через них претворяется в общественные отношения. Либо наоборот: общественные отношения концентрируются и закрепляются в нормах права, на основе которых формулируются принципы [19, с. 102]. При любом соотношении все три элемента сохраняют свое присутствие.
В этой связи большое значение имеет решение вопроса о моменте возникновения принципа права, то есть о том, на каком из перечисленных этапов можно говорить о «готовом», сформировавшемся правовом принципе. Основных научных позиций по этому вопросу две. Согласно первой, ключевой стадией формирования принципа права является его законодательное закрепление. Никакие идеи, не по- лучившие закрепления в законе, не могут считаться правовыми принципами [1, с. 261–263; 12, с. 9; 18, с. 128–132; 26, с. 83–84].
Представители второй концепции считают, что свое регулирующее воздействие на правоприменительную практику могут оказывать и такие правовые идеи-принципы, которые не закреплены в законе. Так, Р.Л. Иванов указывает, что в основе принципа лежат общественные интересы и потребности, которые формируются и изменяются независимо от воли законодателя. При этом главная роль в выявлении таких потребностей принадлежит юридической практике, которая по своей природе призвана оперативно реагировать на происходящие в сфере права изменения [15, с. 74–79]. Именно в форме правоположений юридической практики, сформулированных в постановлениях Пленума Верховного Суда СССР, в советское право впервые вошли такие принципы, как презумпция невиновности и толкование всех сомнений в доказанности обвинения в пользу подсудимого [15, с. 74–79]. При таком подходе законодателю остается лишь констатировать реальное существование того или иного принципа в соответствующих нормативных актах.
Безусловно, возникновение, формирование принципа как научной идеи или руководящего начала юридической практики – это длительный и сложный процесс. И законодательное закрепление выступает лишь завершающей стадией этого процесса. Более того, научные дискуссии и практическая проверка адекватности принципа общественным отношениям не прекращаются и после его включения в текст закона, а часто получают даже новый импульс. И все-таки игнорировать конститутивное значение законодательного оформления принципа недопустимо. Представляется, что только факт закрепления идеи в нормативном акте позволяет со всей определенностью, а не в порядке научной дискуссии, говорить о наличии того или иного правового принципа. И именно от этого закрепленного в тексте закона принципа в дальнейшем отталкиваются в своем развитии и юридическая наука и практика. Поэтому более предпочти- тельным представляется мнение А.Ф. Черданцева, считающего, что «те правовые основополагающие идеи, которые не сформулированы в виде отдельной нормы или не могут быть выведены индуктивным путем из совокупности норм, не должны рассматриваться как принципы права» [29, с. 81]. Идеологические и нормативные характеристики принципа неразрывно связаны, поэтому, когда идея правосознания получает то или иное закрепление в законе, она выступает уже как правовое требование, обладающее высшей императивностью и общезначимостью [28, с. 8].
Таким образом, в законодательстве правовые идеи-принципы [7] или принципы правосознания [20, с. 32] получают объективное общезначимое выражение. Здесь они, с одной стороны, развиваются и конкретизируются в определенных правилах поведения, проявляясь как их общие идейно-правовые основы, критерии их группировки и систематизации [7, с. 14], с другой стороны, закрепляются в форме самостоятельных нормативных предписаний.
Облекаясь в конкретные словесные формулировки, принципы права становятся внешне похожими на правовые нормы, что традиционно порождает в науке споры об их соотношении друг с другом. Характерно при этом, что проблема соотношения норм и принципов относится к числу тех немногочисленных теоретико-правовых вопросов, которые в равной мере волнуют как отечественных, так и зарубежных исследователей.
Приведем две классические точки зрения.
Р. Дворкин в качестве критерия отличия норм от принципов рассматривает степень абстрактности . Принцип, в отличие от нормы, является политическим ценностным ориентиром. Его значимость, «вес» по отношению к другим принципам не установлен заранее. Поэтому если коллизия между нормами разрешается путем выбора одной наиболее подходящей, то коллизия между принципами – путем «взвешивания» каждого из них. Нельзя выбрать один принцип, полностью отвергнув другой [11, с. 50 и др.].
По мнению Р. Алекси, правовые нормы предусматривают фиксированный объем возможного поведения («при выполнении определенных предпосылок с достаточной степенью определенности что-то требуют, запрещают, разрешают или наделяют какими-либо полномочиями» [3, с. 88–89]). Принципы же, наоборот, предполагают, что субъекты должны стремиться к максимально возможному объему реализации [30, p. 47–48] (В советской юридической литературе аналогичное различие выражалось через деление норм на нормы-рамки и нормы-цели [24, c. 15].) Из сказанного следует, что принцип права, в отличие от нормы, требует динамического толкования или «балансирования», то есть его объем и содержание, а также преимущество одного принципа перед другим определяются применительно к каждому делу [3, c. 89].
Вполне логично, поэтому, что принципы часто содержат в себе оценочные понятия. «Добросовестность», «разумность», «справедливость» требуют оценки и интерпретации в каждом конкретном случае и не позволяют механически применить принцип к регулируемым отношениям.
В отечественной научной литературе проблема разграничения норм и принципов связана также с терминологической дискуссией. Если в западной традиции в качестве родового понятия чаще всего используется термин «нормы», которые в свою очередь делятся на «правила» и «принципы»; то в отечественной традиции проблема осложняется тем, что слова «норма» и «правило» принято рассматривать как синонимы. Классической является в этой связи цитата Е.В. Васьковс-кого: «Под юридической нормой в собственном смысле слова следует разуметь не всякую мысль, не всякую фразу законодателя, а только такое его веление, которое заключает в себе правило поведения, обращенное к гражданам или органам власти» [8].
Данная терминологическая сложность порождает два подхода к решению проблемы. Представители первого продолжают использовать термин «норма» в качестве родового понятия, выделяя такие их разновидности, как «нормы-правила» (понятие, звучащее по-русски крайне тавтологично) и исходные нормы (включающие «нормы-принципы») [23]; либо «учредительные и регулятивные нормы». При этом термин «принцип» часто вообще уходит из названия видовой группы и становится в один ряд с другими разновидностями «учредительных норм»: декларациями, дефинициями и пр.
Помимо терминологических сложностей, это имеет еще одно негативное следствие: приравнивание принципов к нормам в определенной мере подразумевает принижение их самостоятельного значения, игнорирование их собственных функций.
Второй подход исходит из того, что, если норма – это и есть правило, то в качестве родового понятия для обозначения принципов и норм необходимо использовать другой термин. Одним из распространенных и удачных вариантов является понятие «нормативно-правовое предписание», под которым понимается минимальное веление законодателя, непосредственно выраженное в тексте нормативного акта [22, c. 43]. Это понятие, с одной стороны, объединяет все положения, нашедшие текстуальное закрепление в нормативно-правовом акте, с другой стороны, позволяет искусственно не приравнивать их друг к другу, представив как самостоятельные типы правовых велений [24, c. 15; 14, c. 10; 9, c. 113–118; 5, c. 12; 27, c. 11].
Ранее в ходе исследования этой проблематики [10] нами был предложен комплексный критерий отличия одного типа предписаний от других. Исходя из него, разграничение между закрепленными в тексте нормативного акта правовыми нормами и принципами права можно провести, учитывая:
-
1) содержательные признаки:
– содержание веления (по содержанию принципы представляют собой идеи, отражающие государственно-правовые закономерности), – степень общности (значительно превышающая степень общности правовых норм),
– внутренняя структура (отсутствие устойчивой внутренней структуры, отсутствие санкции);
-
2) формальные признаки:
– форма изложения (непосредственное или косвенное закрепление),
– положение в структуре нормативного акта (в числе общих положений);
-
3) функциональные признаки:
– роль в правовом регулировании (функционирование в качестве активных центров правовой системы),
– форма реализации (преимущественно опосредованная).
Приведенные особенности позволяют отличить принципы от других правовых веле- ний, закрепленных в тексте нормативно-правового акта. Исследование принципов права как одного из типов нормативно-правовых предписаний дает основания и для обращения к проблемам юридической техники, их законодательного оформления. В числе таких технико-юридических вопросов можно выделить следующие: 1) Всегда ли необходимо (и необходимо ли вообще) нормативно закреплять принципы права? 2) Каким способом (перечисляя лишь наименования или раскрывая содержание каждого принципа) следует их закреплять? 3) Зависит ли действие принципа от технико-юридического способа его текстуального оформления? 4) Различаются ли технико-юридические требования применительно к различным нормативно-правовым актам (например, к кодексам и текущим законам)?
Вопросы эти имеют далеко не оформительское значение. Так, установление в законе системы или четкого перечня принципов позволяет:
-
– представить законодательный текст как более проработанный, логически завершенный, концептуально выдержанный;
– сделать более понятными для субъектов правореализации руководящие идеи, основной смысл правового регулирования;
– побудить законодателя более четко формулировать содержание нормативного акта, не только изложить основные правовые требования, но и обобщить их, выведя те основные идеи, без которых концепция закона не будет ясна;
– наглядно выявить недостатки этого нормативного акта, слабо разработанные или противоречивые моменты в его содержании.
Что касается изложения содержания каждого принципа в отдельной статье, то как показывает анализ сложившейся законотворческой практики, делать это целесообразно в тех случаях, когда:
– особенно важно единообразие толкования принципов (в отраслях публичного права, например, принципы выступают основой деятельности государственных органов и должностных лиц);
– необходимо подчеркнуть отраслевую специфику общеправового принципа (ср.: формулировки принципа законности в ч. 1 ст. 15 Конституции РФ и в ст. 3 УК РФ);
– нужно оговорить ограничения и исключения из положений, установленных принципом («Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения »).
Существование подобных оговорок дает основание для сравнения принципов права с правовыми презумпциями. Традиционно сравнение это проводится по критерию значимости . Так, большинство исследователей сходятся во мнении, что наиболее значимые презумпции должны рассматриваться в качестве правовых принципов. Критериями оценки значимости правовой презумпции считаются: (1) ее способность отражать сущность права в целом или отдельной отрасли; (2) развитие содержания презумпции в нормах данной отрасли; (3) использование презумпции в качестве ориентира в применении и толковании правовых норм [17, c. 11]. К числу таких презумпций-принципов В.К. Бабаев относит, в первую очередь, общеправовые презумпции: презумпцию добропорядочности гражданина, презумпцию знания закона и т. д. [4, c. 328–329]
Возможны, вероятно, и другие критерии сравнения презумпций и принципов. Так, интересным представляется сопоставление этих правовых регуляторов с точки зрения механизма действия .
Правовой принцип всегда представляет собой основополагающее правило, общую идею, выражающую суть правового регулирования определенной сферы общественных отношений. При этом достаточно часто действие принципа предполагает исключения. Сказанное относится как к конституционным положениям («Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц» и т. п.), так и к принципам, закрепленным в отраслевых кодексах («Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена граж- данским кодексом, законом или добровольно принятым обязательством»; «Разбирательство дел во всех судах открытое. Разбирательство в закрытых судебных заседаниях осуществляется по делам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну… а также по другим делам, если это предусмотрено федеральным законом»).
Исключения эти допустимы только в строго оговоренных законом случаях и пределах, однако само их наличие не свидетельствует об ущербности принципа права, а заложено, вероятно, в его природе. Действительно, абсолютные – не допускающие исключений принципы в законодательстве есть (об этом см. ниже), но количество их отнюдь не является преобладающим. Если же принцип рассматривать как общее правило, имеющее отдельные строгие исключения, то достаточно явной становится его близость к правовой презумпции (ср.: «договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное »; «при разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами »). Действительно, сугубо регулятивное значение принципа состоит в том, что во всех случаях противоречий, пробелов, неясностей в законодательстве, недостатка нормативной либо фактической информации ориентиром при выборе обоснованного решения является правило, устанавливаемое принципом. Разумеется, роль правовых принципов не сводится к случаям применения аналогии права или к возможности их прямого действия. Однако именно это прикладное их назначение роднит принципы с презумпциями. Их сходство заключается в следующем:
-
– презумпции, так же как принципы, устанавливают общее правило, общий порядок регулирования тех или иных отношений;
-
– жестко закрепляют все возможные исключения из общего правила (в том числе субъектов, порядок и условия его нарушения или опровержения);
-
– во всех случаях, кроме специально оговоренных, действует общее правило.
Принципы, как и презумпции, требуют обоснования их применения в конкретной ситуации. Применяемые в зарубежной доктрине термины «балансирование», «взвешивание», «оптимизация», «тест на пропорциональность» отражают необходимость оценки содержания конкретного принципа применительно к ситуации, подлежащей регулированию. Такая оценка или доказательство применимости принципа часто признается типичной формой его реализации [13, c. 26–33]. Помимо структурного сходства, в литературе подчеркивается и функциональная близость принципов права с презумпциями. Оба вида предписаний рассматриваются в качестве относительно самостоятельных средств поднормативного регулирования, призванных направлять и корректировать деятельность правоприменителя, детализирующего их относительно конкретной жизненной ситуации [21, c. 122].
При подобном подходе можно говорить не только о том, что наиболее важные презумпции «дорастают» по своему значению до принципов права, но и о том, что каждая презумпция является по природе своей принципом – принципом разрешения конкретной ситуации неопределенности. Не случайно, например, в дореволюционных классических трудах гражданско-правовая презумпция вины именуется принципом вины [25, c. 290–291].
Наличие текстуальной формы позволяет сопоставить принципы не только с правовыми презумпциями, но и с другими нормативными положениями, в том числе, с правовыми аксиомами.
Соотношение этих правовых регуляторов неоднократно рассматривалось еще в советской научной литературе. Одна позиция заключалась в фактическом отождествлении аксиом с важнейшими принципами, закрепленными в нормативно-правовых актах [2, c. 111– 112]. Согласно другой точке зрения, аксиомы, выражающие общечеловеческую сущность права, необходимо отличать от принципов, отражающих классовую специфику права данной социальной общности [28, c. 13]. Думается, второй подход с уходом от советской идеологии устарел, в то время как первый, сформулированный С.С. Алексеевым еще в 70-е гг. XX в., сохраняет свою актуальность.
Соотнести принципы и аксиомы можно и по другому критерию – масштабу действия . Значение принципа права приобретают идеи, имеющие общеправовое или отраслевое значение, развивающиеся и конкретизируемые во многих нормах права. О многих аксиомах можно сказать то же самое («нельзя дважды судить за одно преступление»; «нельзя быть судьей в собственном дела»; «суд и судей нужно уважать»). Но некоторые аксиомы могут определять содержание лишь нескольких правовых норм, либо вообще выражаться в одном единственном предписании закона («общеизвестные факты доказыванию не подлежат»). Существование подобных «одиночных» аксиом вполне согласуется с юридической природой этих правовых феноменов, как элементарных истин, не допускающих иных толкований, не нуждающихся в доказательствах и, следовательно, не требующих дальнейшего уточнения и конкретизации.
При этом, если обратиться к механизму действия , рассмотренному выше, можно сделать вывод о том, что аксиомы, в отличие от презумпций, относятся к числу безусловных правовых положений, не содержащих в своей структуре исключений и оговорок.
Многие принципы также не допускают исключений из установленного ими порядка, а значит, могут рассматриваться в качестве безусловных, неопровержимых велений: «Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина» (ч. 1 ст. 5 УК РФ); «При осуществлении правосудия по уголовным делам судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону» (ч. 1 ст. 8.1 УПК РФ); «Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы» (ч. 2 ст. 17 УПК РФ) и др.
Думается, наиболее близки к аксиомам именно эти, безусловные, принципы. Можно предположить, что, не имея устойчивой внутренней структуры, принципы могут существовать в виде условных и безусловных нормативно-правовых предписаний. Некоторые принципы, устанавливая правило, не допускающее исключений, выступают в качестве неопровержимых положений (они по природе ближе все- го к правовым аксиомам). Другая группа нормативно-правовых принципов содержит в своей структуре оговорки и исключения, приближаясь по строению к правовым презумпциям.
Таким образом, принципы права, закрепляемые в тексте нормативного акта, не имеют устойчивой внутренней структуры, действуя либо как аксиомы (безусловные предписания), либо как презумпции (условные предписания). Отличает же их от других таких положений, в первую очередь, значение в масштабах системы права.
В научной литературе принципы традиционно рассматриваются как идеи, пронизывающие содержание права. Такое положение вполне обосновано в связи с тем, что их основное назначение связано с нравственным гуманистическим содержанием, выражаемым принципами и пронизывающим всю правовую систему. Однако, акцентируя внимание исключительно на общеправовом значении принципов, мы неизбежно превращаем их в абстрактную категорию. Поэтому, наряду с общеидеологическим, необходимо исследовать и конкретное регулятивное значение правовых принципов, которое непосредственно связано с их закреплением в тексте закона в форме специфических нормативно-правовых предписаний. Более того, именно рассмотрение принципов в качестве предписаний особого типа позволяет, абстрагировавшись от их глобальной роли в правовом регулировании, выявить механизм непосредственного действия принципов права.
Нормативный срез проблемы не дает исчерпывающего представления о правовых принципах, но позволяет несколько «приземлить» их, придать исследованию менее абстрактный характер, рассмотреть технико-юридические аспекты, структуру и алгоритм действия законодательных принципов, увидеть их сходство с другими правовыми регуляторами и в итоге сделать процесс непосредственной реализации принципов более понятным для правоприменителя.
Список литературы Принципы позитивного права в теоретико-правовом дискурсе
- Алексеев, С. С. Общая теория права/С. С. Алексеев. -М.: Изд-во БЕК, 1981. -Т. 1. -320 с.
- Алексеев, С. С. Проблемы теории права. В 2 т. Т. 1. -Свердловск: Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1972. -396 с.
- Алекси, Р. Понятие и действительность права (ответ юридическому позитивизму)/Р. Алекси. -М.: Инфотропик Медиа, 2011. -192 с.
- Бабаев, В. К. Презумпции в российском праве и юридической практике/В. К. Бабаев//Проблемы юридической техники/под ред. В. М. Баранова. -Н. Новгород: Типограф, 2000. -С. 328-329.
- Блохин, Ю. В. Критерии отграничения нормативно-правовых предписаний от ненормативных в советском законодательстве (на примере нетипичных предписаний): автореф. дис.. канд. юрид. наук/Блохин Юрий Владимирович. -М., 1991. -25 с.
- Борисов, Г. А. Отправные нормативные установления советского законодательства: дис.. д-ра юрид. наук/Борисов Геннадий Александрович. -Харьков, 1991. -396 с.
- Васильев, А. М. О правовых идеях-принципах/А. М. Васильев//Советское государство и право. -1975. -№ 3. -С. 14.
- Васьковский, Е. В. Руководство к толкованию и применению законов (для начинающих юристов)/Е. В. Васьковский. -М.: Типолитография товарищества И.Н. Кушнерев и Ко, 1913. -72 с.
- Горшенев, В. М. Нетипичные нормативные предписания в праве/В. М. Горшенев//Советское государство и право. -1978. -№ 3. -С. 113-118.
- Давыдова, М. Л. Нормативно-правовое предписание. Природа, типология, технико-юридическое оформление/М. Л. Давыдова. -СПб.: Юрид. центр Пресс, 2009. -300 с.
- Дворкин, Р. О правах всерьез/Р. Дворкин. -М.: РОССПЭН, 2004. -392 с.
- Добровольская, Т. Н. Принципы советского уголовного процесса/Т. Н. Добровольская. -М.: Юрид. лит., 1971. -200 c.
- Енилеева, А. Э. Деление норм права на правила и принципы в учении Р. Алекси/А. Э. Енилеева//Ученые записки Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. Юридические науки. -2015. -№ 1. -С. 26-33.
- Заец, А. П. Согласованность нормативных предписаний как условие повышения эффективности правового регулирования: автореф. дис.. канд. юрид. наук/Заец Анатолий Павлович. -Киев, 1985. -202 с.
- Иванов, Р. Л. Принципы советского права: дис.. канд. юрид. наук/Иванов Роман Леонидович. -Л., 1988. -218 с.
- Керимов, Д. А. Философские основания политико-правовых исследований/Д. А. Керимов. -М.: Мысль, 1986. -332 с.
- Кузнецова, О. А. Презумпции в российском гражданском праве: автореф. дис.. канд. юрид. наук/Кузнецова Ольга Анатольевна. -Екатеринбург, 2002. -23 с.
- Курс советского гражданского процессуального права. В 2 т. Т. 1. -М.: Наука, 1981. -567 с.
- Лившиц, Р. З. Теория права/Р. З. Лившиц. -М.: БЕК, 1994. -224 с.
- Лившиц, Р. З. Принципы советского трудового права/Р. З. Лившиц, В. И. Никитинский//Советское государство и право. -1974. -№ 8. -С. 32-40.
- Медная, Ю. В. Поднормативное правовое регулирование общественных отношений: дис.. канд. юрид. наук/Медная Юлия Валерьевна. -Саратов, 2008. -198 с.
- Мицкевич, А. В. Акты высших органов Советского государства. Юридическая природа нормативных актов высших органов государственной власти и управления СССР/А. В. Мицкевич. -М.: Юрид. лит., 1967. -172 с.
- Нормы советского права: Проблемы теории/под ред. М. И. Байтина, В. К. Бабаева. -Саратов: изд-во Сарат. ун-та, 1987. -248 с.
- Пиголкин, А. С. Основные виды правовых предписаний в советском законодательстве/А. С. Пиголкин, Н. Н. Вопленко//Проблемы совершенствования советского законодательства. Труды ВНИИСЗ. -М., 1979. -Вып. 16. -С. 15-17.
- Покровский, И. А. Основные проблемы гражданского права/И. А. Покровский. -М.: Центр ЮрИнфоР, 2003. -960 с.
- Полянский, Н. Н. Вопросы теории советского уголовного процесса/Н. Н. Полянский. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1956. -271 с.
- Тяжкий, В. Г. Типовые предписания и государственные рекомендации в системе советского трудового права: автореф. дис.. канд. юрид. наук/Тяжкий Виктор Генрихович. -М., 1988. -32 с.
- Ференс-Сороцкий, А. А. Аксиомы и принципы гражданско-процессуального права: автореф. дис.. канд. юрид. наук/Ференс-Сороцкий Андрей Александрович. -Л., 1989. -24 с.
- Черданцев, А. Ф. Толкование советского права/А. Ф. Черданцев. -М.: Юрид. лит., 1979. -168 с.
- Alexy, R. Theory of Constitutional Rights/R. Alexy. -N. Y.: Oxford University Press, 2010. -462 p.