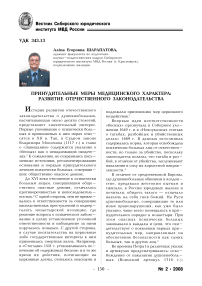Принудительные меры медицинского характера: развитие отечественного законодательства
Автор: Шарапатова Ална Егоровна
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Дискуссионная трибуна. Голоса молодых
Статья в выпуске: 2, 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140195843
IDR: 140195843 | УДК: 343.13
Текст статьи Принудительные меры медицинского характера: развитие отечественного законодательства
И стория развития отечественного законодательства о душевнобольных, насчитывающая около десяти столетий, представляет значительный интерес. Первые упоминания о психически больных и применяемых к ним мерах относятся к ХII в. Так, в Судном законе Владимира Мономаха (1117 г.) в главе о «Завещании» содержится указание о «бесных» как о ненадлежащих свидете-лях.1 К сожалению, не сохранились письменные источники, регламентировавшие основания и порядок принудительного лечения психически больных, совершивших общественно опасное деяние.
До XVI века отношение к психически больным лицам, совершившим общественно опасные деяния, отличалось противоречивостью и непоследователь-ностью.2 С одной стороны, они не привлекались к ответственности за совершение насильственных преступлений и подвергались монастырской изоляции, где решение вопроса о психическом заболевании в целях установления уголовной ответственности и наблюдение за ними поручалось монахам. С другой стороны, в случае посягательства на церковные либо государственные интересы к ним применялась смертная казнь. Например, в «Стоглаве» 1551 г. устанавливалось попечение об «одержимых бесами» и в то же время их действия, посягающие на церковные догмы, считались опасными и подлежали применению мер церковного воздействия.3
Впервые идея неответственности «бесных» прозвучала в Соборном уложении 1649 г. и в «Новоуказных статьях о татьбах, разбойных и убийственных делах» 1669 г. В данных источниках содержалась норма, которая освобождала психически больных лиц от ответственности, но только за убийство, поскольку законодатель полагал, что татьба и разбой, в отличие от убийства, заслуживают наказания в силу их корыстной направ-ленности.4
В отличие от средневековой Европы, где душевнобольных обвиняли в колдовстве, предавали жестоким пыткам и сжигали, в России юродивых жалели и почитали, обидеть такого — означало навлечь на себя гнев божий. На Руси душевнобольные, совершившие те или иные правонарушения, как уже было указано, чаще всего помещались в принудительном порядке в монастыри. При этом опасных психически больных заковывали в кандалы и цепи, что свидетельствует о появлении первых принудительных мер, направленных на обеспечение безопасности как самих больных, так и других лиц.5
Во времена Петра I в различных указах и артикулах предусматривались: освобождение от наказания душевнобольных (Воинский артикул 1716 г.);
помещение умалишенных в монастыри (Указ 1722 г.) и др. В 1742 г. был издан Сенатский указ «Об отсылке беснующихся в Святейший Синод для распределения их по монастырям». Таких больных предполагалось содержать в особых помещениях, «имея над ними надзирание, чтобы они не учинили какого себе и другим повреждения»6.
Обращение с психически больными лицами «в сумасшедших домах» дореволюционной России в течение века было направлено не столько на лечение, сколько на усмирение и призрение (уход). Такие дома были открыты в Новгороде (1776 г.), Москве (1809 г.) и др. Всего к 1810 г. в подчинении Министерства полиции было 14 домов для умалишенных.7 Как отмечал Л.С.Белог-риц-Котляревский, в домах для умалишенных того времени лечением практически не занимались, опасных психически больных, совершивших общественно опасное деяние, в целях безопасности запирали в «смирительных домах», где обращались с ними как с преступниками и нередко содержали их в клетках или в особых постройках за толстыми бревнами с оковами на руках и ногах, приковывая к стене или бревну.8
Введение в практику российского судопроизводства судебных Уставов 1864 г. привнесло ряд принципиально новых для российской действительности основ процессуального законодательства, таких как гласность и состязательность процесса, устное производство, равноправие сторон. Фактически тогда же были заложены основы отечественного уголовно-процессуального законодательства о психически больных.
Все уголовное законодательство было представлено отдельными статьями в Уставе уголовного судопроизводства, Уложении о наказаниях, а также в сборниках «Решений Общего Собрания и Уголовного Кассационного департамента Правительствующего Сената».
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что, как правило, все зако- нодательные акты издавались с подробными комментариями. Толкование статей допускало возможность должностных лиц действовать по своему усмотрению. Например, при освидетельствовании обвиняемого или подследственного следователь имел возможность не знакомить врача с материалами дела, ссылаясь на тайну следствия.9
На обсуждение специалистов и законодательных органов неоднократно выносились многочисленные проекты по организации содержания душевнобольных преступников, которые сводились к трем способам решения данной проблемы: создание специальных клиник для больных, находящихся на лечении в соответствии со ст.95, 96 Уложения о наказаниях; создание для данной категории больных специализированных отделений при общих психиатрических клиниках; устройство таких отделений при тюрьмах. Известный своим гуманным отношением к больным Н.Н.Баженов предлагал организацию специальных загородных колоний для таких больных.10
Следующий шаг в развитии мер, применяемых к психически больным лицам, нарушившим уголовно-правовые запреты, был сделан в Уголовном уложении 1903 г., где было установлено положение о невменяемости как обстоятельстве, исключающем возможность привлечения лица к уголовной ответственности; причем само понятие невменяемости в этом акте максимально приближено к современному. В отношении таких лиц, в случаях когда их оставление без особого присмотра признавалось опасным, суд назначал одну из двух предусмотренных мер: помещение во врачебное заведение либо отдачу «под ответственный надзор родителям или другим лицам, пожелавшим принять его на свое попечение».
Таким образом, дореволюционное законодательство предусматривало два вида принудительных мер медицинского характера: 1) помещение психически больного, совершившего общественно опасное деяние, во врачебное заведение (либо дом для умалишенных); 2) отдачу под ответственный надзор родителям или другим лицам, пожелавшим принять его на свое попечение.
Первым законодательным документом советского периода о мерах, применяемых к психически больным, явилась инструкция «Об освидетельствовании душевнобольных», изданная в июне 1918 г. Народным комиссариатом юстиции, где в отношении лиц, признанных психически больными, кроме досрочного освобождения предусматривался перевод заболевшего в психиатрическое лечебное заведение и отдача его на поруки.
Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство России советского периода исключало возможность наказания лиц, совершивших общественно опасные деяния в состоянии невменяемости и психического расстройства, наступившего после совершения преступления, и всегда содержало нормы, устанавливающие применение принудительных мер медицинского характера в отношении психически больных лиц. В «Руководящих началах по уголовному праву РСФСР» 1919 г. предполагалось применять к таким лицам «принудительные меры предосторожности» (ст.14), которые заключались в принудительном лечении в общественных психиатрических больницах ведомства здравоохранения и постоянном надзоре в условиях стационаров с наружной охраной.11
УК РСФСР 1922 г. сформулировал положение о ненаказуемости психически больных (ст.17) и предусмотрел две нормы о «мерах социальной защиты», заменяющих по приговору суда наказание или следующих за ним (ст.46):
-
1) помещение в учреждение для умственно отсталых или морально дефективных;
-
2) принудительное лечение, специально оговорив, что «суд выносит постановление о мерах социальной
защиты, если не применяет к обвиняемому наказания, но вместе с тем считает пребывание его на свободе опасным для общества» (ст.47).12
Практика применения данных норм была чрезвычайно непоследовательна. Суды «часто путались в своих решениях, не имея возможности уяснить себе, к кому же должно быть применено принудительное лечение, и выносили в разных случаях то одно, то другое решение: то признавали виновным и ответственным и одновременно назначали принудительное лечение, то признавали невменяемым и тоже назначали принудительное лечение, иногда признавали невменяемым и в то же время выносили обвинительный приговор по соответствующим статьям кодекса»13.
Глава 16 УПК РСФСР 1922 г. посвящалась вопросам психиатрической экспертизы и называлась «Определение психического состояния обвиняемого». Вместе с тем в УК РСФСР 1922 г. не были закреплены понятия «вменяемость» и «невменяемость», в то время как в УПК РСФСР 1922 г. ст.197 и ст.201 эти понятия содержали.
Согласно ст.196 УПК РСФСР 1922 г. при наличии в деле указаний на невменяемое состояние обвиняемого во время совершения преступления или на болезненное расстройство душевной деятельности следователь был обязан собрать сведения, необходимые для суждения о психическом состоянии обвиняемого, путем освидетельствования обвиняемого врачом-экспертом, а также путем опроса обвиняемого, его близких и других лиц.
Циркуляр Народного комиссариата юстиции от 15 марта 1924 г. № 76 указывал, какие именно вопросы должны быть освещены следователем для экспертизы: наследственность обвиняемого; не было ли у него в детском возрасте резких отклонений от нормы как в смысле здоровья, так и воспитания; условия его жизни и труда; не находился ли ранее в психиатрическом стациона-

ре; не совершал ли ранее преступлений и не покушался на самоубийство; кем именно были обнаружены признаки душевного расстройства и в чем эти признаки выражались; был ли он на в оенной службе; в отношении женщин – не замечалось ли за ними во время беременности, при родах и в послеродовой период психических расстройств.14
В соответствии со ст.197 УПК РСФСР 1922 г. если собранными сведениями и произведенным освидетельствованием установлено будет невменяемое состояние обвиняемого во время совершения приписываемого ему преступления или возникшее после совершения преступления, следователь направляет дело в суд с заключением о прекращении дела или приостановке впредь до выздоровления, одновременно известив прокурора.
Судебное разбирательство проходило с участием прокурора, поддерживающего в процессе обвинение, гражданского истца и его представителей, самого обвиняемого, его законных представителей и защитников, потерпевшего в тех случаях, когда ему было предоставлено право поддерживать обвинение, и представителей его интересов.
Следует подчеркнуть, что по УПК РСФСР 1922 г. лицо, признанное невменяемым, занимало процессуальное положение обвиняемого, подсудимого. Центральное место при судебном разбирательстве таких дел отводилось производству экспертизы.15
Окончательное решение вопроса об ответственности лица, психические способности которого вызывают сомнение, было предоставлено суду. Суд мог не согласиться с экспертизой, однако такое несогласие должно было быть подробно мотивировано в приговоре или особом определении.
Согласно ст.322 УПК РСФСР если судом будет признано, что подсудимый во время совершения предписываемого ему деяния находился в невменяемом состоянии, то суд выносит определение о прекращении дела, причем входит в обсуждение вопроса о необходимости принятия по отношению к подсудимому мер социальной защиты. Если судом будет признано, что подсудимый впал в болезненное расстройство душевной деятельности после совершения приписываемого ему деяния, то суд выносит определение о приостановлении дела впредь до выздоровления подсудимого или о прекращении дела производством, если болезнь признана неизлечимой.
Различия в понимании мер социальной защиты медицинского характера юристами и психиатрами, отсутствие инструктивной регламентации этих мер и организационного опыта их применения приводили к нарушениям требований УПК РСФСР 1922 г. Психически больные направлялись на принудительное лечение не только судом, но и следователями. В ряде случаев суды назначали меры социальной защиты медицинского характера без предварительной судебно-психиатрической экспертизы. Психиатры, в свою очередь, выписывали лиц, находившихся на принудительном лечении, без решения суда. Сроки принудительного лечения были явно недостаточными: в течение первых шести месяцев выписывались более половины больных.16
Положение изменилось в лучшую сторону после принятия Инструкции Народного комиссариата юстиции РСФСР и Народного комиссариата здравоохранения РСФСР от 17 февраля 1935 г. «О порядке назначения проведения принудительного лечения психически больных, совершивших преступления», в соответствии с которой назначение и снятие принудительного лечения были отнесены к функции судов (п.1). При этом предусматривалось обязательное проведение судебно-психиатрической экспертизы.17
Необходимо также отметить, что статьи УПК РСФСР 1922 г., касавшиеся лиц, совершивших преступные деяния в невменяемом состоянии или заболевших психическим расстройством после совершения преступления, не были систематизированы и объединены в единую главу.
УПК РСФСР 1960 г. впервые ввел самостоятельную гл.33 «Производство по применению принудительных мер медицинского характера», где была дана более подробная регламентация уголовно-процессуальной деятельности в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния в состоянии невменяемости или заболевших после совершения преступления психическим расстройством, которое делало невозможным исполнение наказания.
Появились основания применения принудительных мер медицинского характера, уголовно-процессуальные гарантии (обязательное участие защитника, обязательное производство предварительного следствия) для лиц, в отношении которых велось такое производство.
Вместе с тем в 1960-е гг. судебное разбирательство по делам о применении принудительного лечения в половине случаев проводилось без разъяснения участникам процесса их прав. Все дела рассматривались без участия лиц, совершивших общественно опасные деяния, даже если ко времени судебного разбирательства эти лица обладали устойчивой способностью давать показания. Значительная часть дел разбирались в отсутствие родственников психически больных (39%), защитников (35%) и членов врачебных комиссий (82%).18 А.А.Хомовский отмечал: «Весь процесс, по существу, сводился к заключительной части судебного следствия — к выступлениям прокурора и защитника, если они участвовали в процессе, при этом протокол судебного заседания мог занимать всего две строчки: ”Пред-седательствующим доложено дело. Судом вынесено определение”»19 .
Единственным документом, более подробно регламентирующим деятельность судов при рассмотрении дел о применении принудительных мер медицинского характера, стало постановление Пленума Верховного Суда СССР от 26 апреля 1984 г. «О судебной практике по применению, изменению и отмене принудительных мер медицинского характера», действующее и по сей день.
Современный период развития и совершенствования нормативно-правовой базы применения принудительного лечения тесно связан с закреплением основополагающих принципов, общих и специальных положений осуществления психиатрической помощи в Законе РФ от 2 июля 1992 г. №3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Данный закон согласован с Принципами защиты лиц, страдающих психическими заболеваниями, и улучшения здравоохранения в области психиатрии (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1991г. № 46/119). При этом Принципы защиты психически больных конкретизированы и развиты в соответствии с особенностями правовой системы Российской Федерации.20
С принятием Закона РФ «О психиатрической помощи» применение принудительных мер медицинского характера, предусмотренных уголовным законодательством, перестало быть изолированным мероприятием в системе оказания психиатрической помощи. Принудительные меры медицинского характера стали разновидностью медицинских мер, которые применяются по решению суда в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами, совершивших общественно опасные деяния, по основаниям и в порядке, установленными Уголовным кодексом РФ и Уголовно-процессуальным кодексом РФ.
В настоящее время сущность принудительных мер медицинского характера раскрывается в УК РФ, а порядок их применения достаточно подробно регламентируется УПК РФ.
С принятием УК РФ впервые были сформулированы и закреплены в тексте закона основания и цели применения принудительных мер медицинского
характера. В ч.2 ст.97 УК РФ содержится принципиально важная норма о том, что принудительные меры медицинского характера назначаются только тогда, когда психические расстройства лица связаны с возможностью причинения им иного существенного вреда либо с опасностью для себя и других лиц. Новеллой УК РФ стало то, что продление принудительных мер медицинского характера, их изменение и прекращение осуществляются судом по представлению администрации учреждения, осуществляющего принудительное лечение, на основании заключения комиссии врачей-психиатров.
В УПК РФ порядок судопроизводства по применению принудительных мер медицинского характера устанавливается гл.51 «Производство о применении принудительных мер медицинского характера».
Новым является то, что в отличие от ранее действовавшего УПК РСФСР, который распространял действие гл.33 «Производство по применению принудительных мер медицинского характера» и на лиц, совершивших преступление и признанных нуждающимися в лечении от алкоголизма или наркомании, УПК РФ исключил указанную категорию лиц из субъектов, предусмотренных гл.51, в силу чего производство в отношении них ведется в общем порядке, что прямо указывается в п.4 ст.433 УПК РФ.
В понятие и принцип производства по уголовным делам о применении принудительных мер медицинского характера внесены существенные изменения. Данные нормы в УПК РФ приведены в детальное соответствие с базовыми статьями УК РФ, с международными нормами и положениями федеральных законов. Например, в отличие от ранее действовавшего уголовно-процессуального законодательства, где ст.403 дублировала содержание ст. 97 УК РФ об основаниях назначения принудительных мер медицинского характера, ст.433 УПК РФ устанавливает основания для производства по применению принудительных мер медицинского характера в отношении двух категорий лиц: 1) лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости; 2) лица, у которого после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение.
Кроме того, новацией УПК РФ является отказ от понятий «душевная болезнь», «душевное заболевание» и употребление общепризнанной терминологии и классификации психических расстройств, современной трактовки понятия и содержания невменяемости.
В то же время в новом уголовнопроцессуальном законодательстве, регламентирующем производство о применении принудительных мер медицинского характера, осталось немало пробелов и спорных моментов, нуждающихся в восполнении и уточнении.
-
1 Голоднюк, М.Н. Развитие российского законодательства о принудительных мерах медицинского характера / М.Н.Голоднюк // Вестник Моск. ун-та. Сер. 11. Право. — 1998. — №5 — С.43.
-
2 Рогов, В.А. История уголовного права, террора и репрессий в Русском государстве в XV- XVII веках / А.В.Рогов. – М., 1986. – С.363
-
3 Стоглав // Российское законодательство XXX веков : в 9 т. / отв. ред. А.Д.Горский. – М., 1985. - Т.2. – С.369-370.
-
4 Лунц, Д.Р. Проблема невменяемости в теории и практике судебной психиатрии / Д.Р.Лунц. – М., 1977. – С.27.
-
5 Голоднюк, М.Н. Указ. соч. – С.43.
-
6 Жариков, Н.М. Судебная психиатрия : учебник для вузов / Н.М.Жариков, Г.В.Морозов, Д.Ф.Хритинин. – М., 2003. – С.11.
-
7 Руководство по психиатрии : в 2 т. / А.С.Тиганов [и др.] ; под ред. А. С.Тиганова. – М., 1999. – Т.1. - С.329.
-
8 Белогриц-Котляревский, Л.С. Учебник русского уголовного права. Общая и Особенная части / Л.С. Белогриц-Котляревский. – К.-СПб.- Х., 1904. – С.135.
-
9 Хрулев, С. Характер преступных деяний душевнобольных / С.Хрулев. – СПб., 1893. – С.172.
-
10 Баженов, Н.Н. Проект законодательства о душевнобольных и объяснительная записка к нему / Н.Н.Баженов. – М., 1911. – С.15.
-
11 Морозов, Г.В. Основные этапы развития отечественной судебной психиатрии / Г.В.Моро-зов. – М., 1967. – С.135-137.

-
12 Гольдблат, Г. Проект изменений и дополнений в законоположениях о душевнобольных / Г. Гольдблат // Советское право — 1926. — № 2 (20). – С.19-22.
-
13 Аменицкий, Д.А. К вопросу о принудительном лечении и социально опасных психопатах / Д.А.Аменицкий // Душевнобольные правонарушители и принудительное лечение. – М., 1929. – С.33-34.
-
14 Андреев, М. Уголовный процесс РСФСР / М.Андреев, Т.Бахров, С.Лозинский ; под ред. А.Я.Эстрина. – Л., 1927. – С.145.
-
15 Сегалов, Т.Е. Основы советского законодательства о душевнобольных / Т.Е.Сегалов. – М., 1925. – С.46-47.
-
16 Морозов, Г.В. Указ. соч. – С.182-183.
-
17 Фейнберг, Ц.М. Принудительное лечение и призрение душевнобольных, совершивших преступления, в дореволюционной России / Ц.М.Фей-нберг // Проблемы судебной психиатрии. – Вып. 5. – М., 1946. – С.63.
-
18 Назаренко, Г.В. Принудительные меры медицинского характера / Г.В. Назаренко – М., 2003. – С.23.
-
19 Хомовский, А.А. Руководство по применению принудительных мер медицинского характера в советском уголовном праве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.А.Хомовский. – М., 1967. – С.13.
-
20 Комментарий к Законодательству Российской Федерации в области психиатрии / под общ. ред. Т.Б.Дмитриевой. – М., 1997. – С.10.
Список литературы Принудительные меры медицинского характера: развитие отечественного законодательства
- Голоднюк, М.Н. Развитие российского законодательства о принудительных мерах медицинского характера/М.Н.Голоднюк//Вестник Моск. ун-та. Сер. 11. Право. -1998. -№5 -С.43.
- Рогов, В.А. История уголовного права, террора и репрессий в Русском государстве в XV-XVII веках/А.В.Рогов. -М., 1986. -С.363
- Стоглав//Российское законодательство X-XX веков: в 9 т./отв. ред. А.Д.Горский. -М., 1985. -Т.2. -С.369-370.
- Лунц, Д.Р. Проблема невменяемости в теории и практике судебной психиатрии/Д.Р.Лунц. -М., 1977. -С.27.
- Жариков, Н.М. Судебная психиатрия: учебник для вузов/Н.М.Жариков, Г.В.Морозов, Д.Ф.Хритинин. -М., 2003. -С.11.
- Руководство по психиатрии: в 2 т./А.С.Тиганов [и др.]; под ред. А.С.Тиганова. -М., 1999. -Т.1. -С.329.
- Белогриц-Котляревский, Л.С. Учебник русского уголовного права. Общая и Особенная части/Л.С. Белогриц-Котляревский. -К.-СПб.-Х., 1904. -С.135.
- Хрулев, С. Характер преступных деяний душевнобольных/С.Хрулев. -СПб., 1893. -С.172.
- Баженов, Н.Н. Проект законодательства о душевнобольных и объяснительная записка к нему/Н.Н.Баженов. -М., 1911. -С.15.
- Морозов, Г.В. Основные этапы развития отечественной судебной психиатрии/Г.В.Морозов. -М., 1967. -С.135-137.
- Гольдблат, Г. Проект изменений и дополнений в законоположениях о душевнобольных/Г. Гольдблат//Советское право -1926. -№ 2 (20). -С.19-22.
- Аменицкий, Д.А. К вопросу о принудительном лечении и социально опасных психопатах/Д.А.Аменицкий//Душевнобольные правонарушители и принудительное лечение. -М., 1929. -С.33-34.
- Андреев, М. Уголовный процесс РСФСР/М.Андреев, Т.Бахров, С.Лозинский; под ред. А.Я.Эстрина. -Л., 1927. -С.145.
- Сегалов, Т.Е. Основы советского законодательства о душевнобольных/Т.Е.Сегалов. -М., 1925. -С.46-47.
- Фейнберг, Ц.М. Принудительное лечение и призрение душевнобольных, совершивших преступления, в дореволюционной России/Ц.М.Фейнберг//Проблемы судебной психиатрии. -Вып. 5. -М., 1946. -С.63.
- Назаренко, Г.В. Принудительные меры медицинского характера/Г.В. Назаренко -М., 2003. -С.23.
- Хомовский, А.А. Руководство по применению принудительных мер медицинского характера в советском уголовном праве: автореф. дис.... канд. юрид. наук/А.А.Хомовский. -М., 1967. -С.13.
- Комментарий к Законодательству Российской Федерации в области психиатрии/под общ. ред. Т.Б.Дмитриевой. -М., 1997. -С.10.