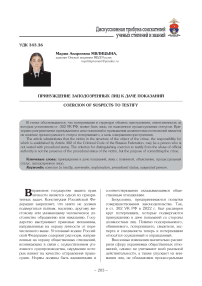Принуждение заподозренных лиц к даче показаний
Автор: Мялицына М.А.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Дискуссионная трибуна соискателей ученых степеней и званий
Статья в выпуске: 3 (56), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье обосновывается, что потерпевшим в структуре объекта преступления, ответственность за которые установлена ст. 302 УК РФ, может быть лицо, не наделенное процессуальным статусом. Критерием разграничения принуждения к даче показаний и превышения должностных полномочий является не наличие процессуального статуса потерпевшего, а цель совершения преступления.
Принуждение к даче показаний, явка с повинной, объяснение, процессуальный статус, заподозренное лицо
Короткий адрес: https://sciup.org/140306343
IDR: 140306343 | УДК: 343.36
Текст научной статьи Принуждение заподозренных лиц к даче показаний
В правовом государстве защита прав личности является одной из приоритетных задач. Конституция Российской Федерации закрепляет, что никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Государство выстраивает правовые механизмы, направленные на охрану личности от перечисленного выше. Уголовный кодекс Российской Федерации содержит ряд норм, направленных на охрану общественных отношений, возникающих в связи с осуществлением уголовного судопроизводства, нарушение которых влияет на качество отправления правосудия. Нормы должны быть адекватными и соответствующими складывающимся общественным отношениям.
Безусловно, предпринимаются попытки совершенствования законодательства. Так, в ст. 302 УК РФ в 2022 г. был расширен круг потерпевших, которые подвергаются принуждению к даче показаний со стороны должностных лиц. Помимо подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, эксперта и специалиста теперь к потерпевшим относятся осужденный и оправданный.
Внесенные изменения значительно расширили сферу охраняемых общественных отношений, однако не учитывают всей реальной действительности, а также упускают из внимания лиц, не обладающих процессуальным статусом, которые также, как и лица, имеющие процессуальный статус, подвергаются принуждению к даче показаний. Подобное положение дел довольно негативно отражается на действующей судебной практике, поскольку одни и те же действия квалифицируются по разным статьям УК РФ в зависимости от наличия у потерпевшего процессуального статуса без учета того, что фактически людей, не наделенных процессуальным статусом, также принуждают к даче показаний.
По справедливому замечанию А.Г. Зайцева: «Факты принуждения к даче показаний зачастую квалифицируются по иным преступлениям против государственной власти либо против жизни и здоровья» [3, с. 101]. Как было отмечено ранее, охрана интересов правосудия, а именно соблюдение запрета на принуждение к даче показаний, осуществляется положениями ст. 302 УК РФ, которая является специальной нормой по отношению к ст. 286 УК РФ. При этом важно обратить внимание на то, что в правоприменительной практике предпочтение отдается общей норме – ст. 286 УК РФ в силу ее простоты толкования, существования шаблонов, которые в значительной мере упрощают работу судов, и наличия более суровой санкции по сравнению с закрепленной в ст. 302 УК РФ. Движение правоприменителя по пути наименьшего сопротивления приводит к тому, что ситуации, связанные с принуждением к даче показаний лиц, не обладающих процессуальным статусом, маскируются под другой состав преступления – превышение должностных полномочий.
Приговором Коминтерновского районного суда г. Воронежа два сотрудника полиции – С.Ю.К. и О.И.С. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а» и «б», ч. 3 ст. 286 УК РФ. Действия указанных сотрудников полиции выразились в пытках, физическом и психическом насилии, которое они применяли к гражданину Г., принуждая его сознаться в преступлении, которого он не совершал. В результате противоправных действий сотрудников полиции мужчине была причинена физическая боль, а также телесные повреждения, которые были квалифицированы как не причинившие вреда здоровью1.
Приговором Свободненского городского суда Амурской области сотрудник полиции А.А.Р. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 302 УК РФ. Будучи осведомленным, что потерпевший является подозреваемым по уголовному делу, осужденный принудил его к даче показаний путем угрозы применения физического насилия, которая выразилась в демонстрации угрожающего жеста – проведении рукой по горизонтальной линии передней поверхности шеи2.
Похожая ситуация, но связанная с разграничением ст. 300 и 285 УК РФ, была предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации. Начнем с того, что в учебной литературе принято считать, что незаконно освободить от уголовной ответственности (ст. 300 УК РФ) можно только лицо, наделенное процессуальным статусом, то есть подозреваемого или обвиняемого. Для этого нужно принять процессуальное решение о прекращении уголовного дела или преследования [5, с. 32].
Незаконное освобождение от уголовной ответственности рассматривается как специальный вид злоупотребления должностными полномочиями. По этому основанию – наличие процессуального статуса у лица, в отношении которого прекращается преследование – проводится отграничение ст. 285 от ст. 300 УК РФ в случаях, когда должностные лица не выполняют обязанности по осущест- влению уголовного преследования. Например, непринятие мер к регистрации сообщения о преступлении, повлекшее общественно опасные последствия в виде непривлечения лица к уголовной ответственности, нарушения авторитета органов власти, права на эффективное средство правовой защиты в государственном органе и компенсацию ущерба, причиненного преступлением, рассматривается как злоупотребление должностными полномочиями. В.Н. Борков и Б.Б. Булатов отмечают, что «в случае укрывательства преступлений, деяния должностных лиц правоохранительных органов квалифицируются по ст. 285 УК РФ, а если прекращается уголовное преследование в отношении подозреваемых или обвиняемых – по ст. 300 УК РФ» [1, с. 74].
Вместе с тем Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что «во взаимосвязи с нормами, определяющими особенности правосудия по уголовным делам, предполагает ее применение к лицам, которые вопреки своей обязанности изобличения виновных в совершении преступления незаконно освобождают их от уголовной ответственности, что может выражаться, в частности, в принятии незаконных процессуальных решений (например, решений об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования), препятствующих наделению лиц, фактически изобличенных в совершении преступления, процессуальным статусом подозреваемых или обвиняемых»1.
В приведенном решении Конституционный Суд РФ обращает внимание на то, что квалификация действий должностных лиц должна основываться не из процессуальном статусе, а на фактическом положении лица. Совершение преступления, предусмотренного ст. 300 УК РФ, препятствует наделению данных лиц процессуальным статусом в будущем. Таким образом, отграничение ст. 285 УК РФ от ст. 300 УК РФ может производиться по признаку фактического изобличе- ния лица в совершенном преступлении, что является актуальным и при решении вопроса об отграничении ст. 286 от ст. 302 УК РФ.
Отметим, что в юридической литературе обсуждаются вопросы о границах применения ст. 302 УК РФ. Так, Г.А. Решетникова справедливо отмечает, что «эти действия не следует ограничивать принуждением к даче показаний или к даче заключения исключительно в ходе допроса. Это вполне могут быть и другие следственные действия» [7, c. 45]. Однако, по нашему мнению, необходимо обратить внимание на то, что момент начала принуждения к даче определенных сведений, изобличающих лицо в совершении преступления, начинается раньше, чем такое лицо получает соответствующий процессуальный статус. Данный факт в диссертационном исследовании подчеркивает Б.Б. Булатов, указывая, что «начало фактической обвинительной деятельности не обусловлено конкретным правоприменительным актом, в связи с чем ее проявлением целесообразно считать любые следственные и процессуальные действия, непосредственно затрагивающие конституционные права личности, содержание которых дает лицу основание полагать, что осуществляется проверка его причастности к совершению преступления. Ведущаяся в отношении лица обвинительная деятельность порождает его права по защите законных интересов безотносительно к наличию процессуального статуса. Первичным является фактическое положение лица, а не официальное его оформление» [2]. Лица, в отношение которых осуществляется проверка на причастность к совершенному преступлению именуются «заподозренными» [8; 9]. В настоящей статье под «заподозренными» лицами мы будем понимать всех лиц, в отношении, которых осуществляется проверка на причастность к совершенному преступлению, в связи с чем данной категорией будут охватываться «фактически задержанный», «лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении», «лицо, от которого получается объяснение, явка с повинной».
Так, до возбуждения уголовного дела от заподозренных лиц – потенциальных участников уголовного судопроизводства – могут быть получены сведения, которые в дальнейшем приобретают доказательственное значение. В рамках расследования «заподозренные» могут давать объяснения, явки с повинной, в которых фиксируется информация о совершенном преступлении. Несмотря на то, что данные документы получаются на стадии проверки сообщения о преступлении, они имеют достаточно серьезное значение в процессе доказывания.
П.В. Козловский указывает, что анализ дел в нескольких регионах позволил сделать вывод о том, что практически по всем из них получались объяснения в ходе проведения проверки в порядке ст. 144 УПК РФ, в части дел общеуголовной направленности присутствовали протоколы явки с повинной. Практически во всех уголовных делах органы, ведущие расследование, ссылались на указанные протоколы как на доказательства. В приговоре судов в подавляющем большинстве протоколы явки с повинной нашли отражение. Ссылки на объяснения как на доказательства единичны, однако, по мнению автора, закон не содержит каких-либо запретов на использование их в качестве доказательств [4, с. 145].
Опрошенные нами судьи Фрунзенского районного суда г. Санкт-Петербурга акцентировали внимание на том, что признание лица может быть зафиксировано, как в ходе получения явок с повинной, так и в ходе получения объяснений. Вне зависимости от способа фиксации данных сведений судом они учитываются в равной степени – в качестве смягчающего наказание обстоятельства. Следовательно, в таком случае объяснение признается доказательством по уголовному делу.
Суды обращают внимание на содержание объяснений, которые в дальнейшем закрепля- ются показаниями лица. То есть фактически лица, не наделенные процессуальным статусом, сообщают аналогичные по содержанию с дальнейшими показаниями сведения. Логика судей в выборе признания в качестве доказательств объяснений в описанной ситуации очевидна, так как объяснения являются первоначальными документами, закрепляющими показания лица. Однако они должны быть получены с учетом ряда правил, установленных в уголовно-процессуальном законе для проведения следственных действий, что делает возможным признание их в качестве доказательств.
Одним из основополагающих прав при производстве процессуальных действий является право на защиту. История о расширении круга лиц, имеющих такое право, берет начало с постановления Конституционного Суда РФ N 11-П от 27 июня 2000 г. по делу В.И. Маслова. Суд разъяснил, что для реализации конституционного права на защиту необходимо учитывать не только формальное процессуальное, но и фактическое положение лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование. Другими словами, суд обратил внимание на то, что понятия фактического и процессуального подозреваемого не эквивалентны. В понимании Конституционного Суда РФ фактический подозреваемый – это тот, в отношении кого существует объективное подозрение, и в отношении кого ведется обвинительная деятельность следствия, выраженная в тех или иных действиях. В связи с этим данным лицам должна быть безотлагательно предоставлена возможность обратиться за помощью к защит-нику1. Необходимо отметить, что Конституционный Суд РФ в приведенном постановлении вел речь о «заподозренном» лице.
Такая же позиция была высказана Пленумом Верховного Суда РФ в постановлении от 31 октября 1995 г. N 8 (ред. от 03.03.2015) «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия»: в соответствии с ч. 2 ст. 48 Конституции РФ и на основании п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ каждое лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих права и свободы этого лица.
Помимо этого Верховный Суд РФ указывает на то, что в ходе производства предварительного расследования и рассмотрения уголовных дел в суде должностные лица, осуществляющие уголовное судопроизводство, и суды обязаны разъяснять лицу, в отношении которого проводилась проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, право не свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников, гарантированное соответствующими нормами УПК РФ.
При невыполнении вышеуказанных требований все объяснения лица, в отношении которого проводилась проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, признаются полученными с нарушением закона.
По справедливому замечанию А.Р. Нобель: «В случае разъяснения при получении объяснений процессуальных прав, обязанностей и ответственности участников уголовного судопроизводства – потерпевшего, подозреваемого, свидетеля – результат объяснений в виде документа, называемого на практике «объяснение», абсолютно не отличается от показаний указанных участников уголовного процесса» [6, с. 116].
В свою очередь, явка с повинной признается доказательством только, если явившемуся лицу разъяснили права не свидетельствовать против себя самого, пользоваться услугами адвоката, приносить жалобы на действия должностных лиц, а также обеспечили возможность реализации указанных прав1. Приведенные условия являются идентичными тем, которые предъявляются к процедуре получения объяснений.
Закрепляя вышеуказанные условия для процессуальных действий, проводимых с лицами, не наделенными процессуальным статусом, высшие судебные инстанции придают все большее значение тем общественным отношениям, которые по своей сути являются частью уголовного судопроизводства в его досудебной части. В связи с этим разграничение превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и принуждения к даче показаний (ст. 302 УК РФ) по процессуальному статусу принуждаемого лица, по нашему мнению, нельзя считать правильным, поскольку лица, в отношении которых проводятся проверочные мероприятия, помимо того, что дают сведения, по содержанию схожие с дальнейшими показаниями, фактически наделяются правами, соответствующими правам подозреваемого (обвиняемого), что делает их полноправными участниками уголовного судопроизводства.
Ключевым критерием, разграничивающим составы преступлений, предусмотренные ст. ст. 286 и 302 УК РФ, по нашему мнению, является цель, а не наличие процессуального статуса у лица.
Действия должностных лиц должны квалифицироваться по ст. 302 УК РФ, когда сотрудники имеют цель – закрепить показания лица именно как подозреваемого (обвиняемого). Таким образом, они придают показаниям процессуальную форму, предусмотренную уголовно-процессуальным законом. В таком случае к лицу, которое не обладает процессуальным статусом, предварительно применяются противоправные меры, стимулирующие его дать показания в будущем в ходе следственного действия. Первоначальным результатом такого принуждения могут выступать объяснения и явки с повинной.
К примеру, оперуполномоченные получили от заподозренного лица явку с повинной, очевидно, что следующим шагом является допрос этого человека, который подтвердит в рамках уже процессуальной процедуры свою причастность к совершенному преступлению. В описанной ситуации рассматривать явку с повинной следует как некий этап дальнейших действий, нацеленных на то, чтобы явка с повинной дальше нашла развитие в рамках расследования, а именно в даче показаний в ходе допроса.
С другой стороны, подобные действия могут выполняться с иной целью. Так, например, явка с повинной может выступать в качестве инструмента для оперативно-розыскной деятельности. Она может быть получена при помощи запрещенных законом методов – угрозы, шантажа, насилия и т.д. Однако в отличие от ранее описанных ситуаций она остается в материалах оперуполномоченного и не играет в дальнейшем доказательственной роли. Человек становится интересен для других целей. К примеру, для оказания содействия правоохранительным органам. В представленной ситуации должностное лицо не стремится использовать явку с повинной как доказательство, а имеет цель – скрыть обнаруженное преступление и использовать полученную информацию исходя из корыстной или иной личной заинтересованности. Видится, что такие действия образуют признаки злоупотребления должностными полномочиями.
Таким образом, следует заключить, что отношения в сфере уголовного судопроизводства влияют на качество отправления правосудия, в связи с чем законодатель установил нормы, охраняющие данные общественные отношения. На сегодняшний день не все нормы соответствуют складывающейся действительности. В частности, при квалификации преступного принуждения упускаются из внимания лица, не наделенные процессуальным статусом, т.е. «заподозренные». Лица, не обладающие процессуальным статусом, могут быть потерпевшими при принуждении их к даче показаний, а критерием разграничения принуждения к даче показаний и иных составов преступлений является цель их совершения. Отметим, что аналогичная ситуация складывается и с лицами, которые являются потенциальными потерпевшими и свидетелями по уголовному делу.
В связи с этим потерпевшими при принуждении к даче показаний являются лица, не имеющие официального уголовнопроцессуального статуса, но фактически привлекаемые в качестве участников уголовного судопроизводства. Для реализации указанных выводов необходимо расширить пе-реченьпотерпевших,предусмотренныхст.302 УК РФ. При таком подходе мы получаем следующую редакцию ст. 302 УК РФ:
«Статья 302. Принуждение к даче показаний
-
1. Принуждение подозреваемого, обвиняемого, осужденного, оправданного, потерпевшего, свидетеля или лица, не имеющего статуса участника уголовного судопроизводства путем применения угроз, шантажа или иных незаконных действий со стороны следователя, лица, производящего дознание, или иного сотрудника правоохранительного органа, а равно другого лица с ведома или молчаливого согласия следователя, лица, производящего дознание, или иного сотрудника правоохранительного органа – …»
Список литературы Принуждение заподозренных лиц к даче показаний
- Борков, В.Н. Незаконное освобождение от уголовной ответственности: нюансы квалификации / В.Н. Борков, Б.Б. Булатов // Уголовный процесс. - 2021. - N 5. - С. 72-78. EDN: FNRIQN
- Булатов, Б.Б. Процессуальное положение лиц, в отношении которых осуществляется обвинительная деятельность: дис. … канд. юрид. наук / Б.Б. Булатов. - Омск, 2010. - 247 с. EDN: QFETCX
- Зайцев, А.Г. К вопросу практического применения нормы об ответственности за принуждение к даче показаний / А.Г. Зайцев // Сибирский юридический форум: современные проблемы науки и практики в уголовном праве и криминологии: материалы международной научно-практической конференции, Барнаул, 15-16 июня 2023 года / под ред. Ю.В. Анохина. - Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2023. - С. 100-101. EDN: GUUAUU
- Козловский, П.В. Отдельные аспекты недопустимости показаний подозреваемого и обвиняемого / П.В. Козловский // Вестник Омского университета. Серия "Право". - 2012. - N 1. - С. 143-146. EDN: PFZUPT
- Метельский, П.С. Незаконное освобождение от уголовной ответственности: проблемы квалификации и правоприменения / П.С. Метельский // Научный вестник Омской академии МВД России. - 2005. - N 2(22). - С. 31-35. EDN: JXCSCP
- Нобель, А.Р. Правовая природа объяснений в уголовном судопроизводстве / А.Р. Нобель // Актуальные проблемы российского права. - 2019. - N 11. - С. 113-119. EDN: OZUZYB
- Решетникова, Г.А. Субъект принуждения к даче показаний в контексте законопроекта об установлении уголовной ответственности за пытки / Г.А. Решетникова // Юридический вестник Кубанского государственного университета. - 2022. - N 14(2). - С. 40-46. EDN: PPIXGU
- Смолькова, И.В. Нужна ли фигура "заподозренного" в уголовном судопроизводстве? / И.В. Смолькова // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. - 2019. - N 3(90). - С. 70-77. EDN: WOKMPB
- Сопнева, Е.В. Заподозренный как способ выражения подозрения / Е.В. Сопнева // Актуальные проблемы российского права. - 2014. - N 7(44). - С. 1474-1480. EDN: TFWWBZ