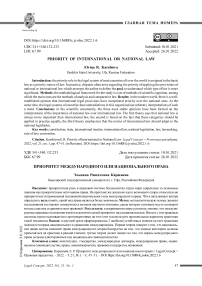Приоритет международного или национального права
Автор: Каршиева Эльвина Рашитовна
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Главная тема номера
Статья в выпуске: 1 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
Введение: приоритетная роль в правовой системе большинства стран мира закреплена за основным законом как приоритетным источником права. На практике же довольно часто возникают споры относительно приоритетности применения положений национального или международного права. Что и наталкивает автора определить цель понять, какой вид права является более значимым. Метод: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых основное место занимают методы анализа и сравнительно-правовой. Результаты: в современном мире устоялось мнение, что международные правовые положения имеют исключительный приоритет над национальными. Вместе с тем правовые системы стран сталкиваются с противоречиями на этот счет и используют произвольные варианты трактовки такой тенденции. Вывод: в научной среде сформировалось 3 наиболее устойчивых мнения на счет трактовки значимости права национального в сравнении международным. Первая теория говорит о том, что национальное право всегда значимее права международного; вторая базируется на том, что данные категории должны применяться на практике в равной степени; третья теория делает акцент на том, что нормы международного права должны адаптироваться под национальное законодательство.
Конституция, государство, международные договоры, международное право, национальное законодательство, право, законотворчество, правовое государство, конвенция
Короткий адрес: https://sciup.org/149139743
IDR: 149139743 | УДК: 341+340.132.233
Текст научной статьи Приоритет международного или национального права
DOI:
ББК 67.99
Дата поступления статьи: 10.01.2021
Дата принятия статьи: 26.01.2022
ПРИОРИТЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО ИЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА
Эльвина Рашитовна Каршиева
Башкирский государственный университет, г. Уфа, Российская Федерация
Введение: приоритетная роль в правовой системе большинства стран мира закреплена за основным законом как приоритетным источником права. На практике же довольно часто возникают споры относительно приоритетности применения положений национального или международного права. Что и наталкивает автора определить цель понять, какой вид права является более значимым. Метод: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых основное место занимают методы анализа и сравнительно-правовой. Результаты: в современном мире устоялось мнение, что международные правовые положения имеют исключительный приоритет над национальными. Вместе с тем правовые системы стран сталкиваются с противоречиями на этот счет и используют произвольные варианты трактовки такой тенденции. Вывод: в научной среде сформировалось 3 наиболее устойчивых мнения на счет трактовки значимости права национального в сравнении международным. Первая теория говорит о том, что национальное право всегда значимее права международного; вторая базируется на том, что данные категории должны применяться на практике в равной степени; третья теория делает акцент на том, что нормы международного права должны адаптироваться под национальное законодательство.
Цитирование. Каршиева Э. Р. Приоритет международного или национального права // Legal Concept = Правовая парадигма. – 2022. – Т. 21, № 1. – С. 47–51. – DOI:
Большинство современных конституций стран мира затрагивают аспекты применения международного права в национальном законодательстве. Вместе с тем существуют различные подходы к трактовке и правоприменению международных норм к внутренней нормативно-правовой базе. Несмотря на разность интерпретаций, устоялось мнение, что международное право имеет исключительный приоритет над правом национальным.
Позиция государствпо международным договорам
В современной мировой практике основные законы большинства стран мира можно классифицировать на 3 категории. Первая категория стран оставляет в приоритете внутреннюю законодательную базу, в отличие от международной. В частности, сюда можно отнести Данию. Чтобы урегулировать законодательные вопросы, учитывается мнение большинства членов нижней палаты парламента [3]. Обратим внимание на то, что в таких странах для ратификации международного договора необходимо принятие соответствующего решения парламента, в противном случае такой договор не будет иметь юридической силы в стране.
Вторая группа государств отличается тем, что здесь международные соглашения и внутренние, национальные нормативно-правовые акты наделены одинаковой юридической силой. Так, к этой группе относим конституцию Польши – «Статья 87. 1. Источниками статутного права Республики Польша являются: Конституция, законы ратифицированных международных договоров, а также положения» [4] и Бельгии. Необходимо отметить, что в таком подходе интересно, что будет действовать последняя правовая норма.
Что касается последней группы стран, то здесь положения международных соглашений, договоров прописаны в национальном законодательстве. Такая практика активно применялась сразу после Второй мировой войны, а наиболее заметным примером для изучения можно назвать Германию. В основном законе страны, а речь идет о 25-й статье, говорится о том, что вступившие в силу нормы международного права неразрывно связаны с национальным законодательством [6]. Подобная правовая практика применяется и в современной Португалии.
Отдельно отметим, что нередко на практике положения международных соглашений вступают в определенные противоречия с национальным законодательством стран [6].
Что же касается практических трудностей, связанных с реализацией национального и международного права, то в мировой практике для разграничения приоритетов ученые предлагают использовать следующий подход. Рекомендуется упорядочить национальную нормативно-правовую базу, адаптируя ее под те или иные положения, изложенные в международных договорах. Такой подход позволяет на практике повысить эффективность права, а также исключить возможные противоречия и трудности, с которыми рано или поздно сталкиваются государственные органы власти. При этом такой подход к устранению несовершенств не обязательный, а имеет рекомендательный характер [8, с. 45].
Подобные рекомендации в свое время были изложены во введении к Венской конвенции, которая была посвящена международному праву [2]. В обозначенном международном документе шла речь о том, что для более эффективной реализации международных прав государствам необходимо предпринимать совместные меры по оптимизации правовой системы, для более эффективного применения права на практике.
Подобные тезисы о консолидации усилий государств в вопросе исполнения права нашли свое отражение и в утвержденном Уставе ООН, где были более детально прописаны механизмы реализации подобных мероприятий, уделялось внимание вопросам усовершенствования национального и международного права, а также другим профильным аспектам, включая международное взаимодействие по данному вопросу.
Конституция Российской Федерации и международные договоры
В пункте 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации 1993 г. закреплено общее правило о том, что «общепризнанные принципы и нормы международного права и между- народные договоры Российской Федерации являются неотъемлемой частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые закреплены законом, то вступают в силу правила международного договора» [5].
Выделим некоторые конституции, в которых часть национального права рассматривается только как международные договоры, это например, Конституция США (ст. 6), Аргентины (ст. 31), Болгарии (ст. 5), Швейцария (ст. 113), Япония (ст. 98). Также есть случае, когда эти положения приняты только в отношении международных норм, например, в конституции Австрии (ст. 9), Сомали (ст. 19), Узбекистана (преамбула), Эстонии (ст. 3). Конституция России идет совсем другим путем, так в ней часть своего национального права принято считать в качестве международных договоров и норм международного права, что не встречается в других конституциях.
В России международное право интегрируется в национальное, что редко встретишь в мировой практике.
Национальная правовая система опирается на принципы того, что приоритет международному праву над национальным может быть применен только в случае выявления сильных противоречий и разночтений в понимании прописанных норм.
Далее предлагаем проанализировать положения основного закона страны, касающиеся гражданских прав и свобод. Так, речь идет о 2-й главе Конституции РФ, где говорится о том, что соблюдение гражданских прав и свобод в стране осуществляется на основе национального и международного законодательства (ч. 1 ст. 17).
Если же проанализировать Федеральный закон № 54 «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», который вступил в силу 30 марта 1998 г., можно понять, что наша страна принимает положения Конвенции как базис национальной правовой системы (ст. 1). Не стоит забывать и о том, что представленное ранее правовое положение должно быть детализировано в определенных нормах основного закона более детально, что это предполагалось изначально. Из сказанного выше можно резюмировать два взаимосвязанных вывода: в России целесообразно обозначенную ранее Конвенцию следует использовать в правовой практике как международный нормативноправовой акт, который имеет несколько большую юридическую силу, чем национальные законы. Также России необходимо придерживаться международных стандартов в вопросе соблюдения итоговых положений Европейского Суда, а также использовать на практике рекомендации правоприменительной практики.
Общеизвестный правовой факт, что основной закон страны на территории России имеет исключительную или высшую юридическую силу. При этом любая внутренняя нормативно-правовая база должна дополнять и пояснять расширенно положения Конституции, но никак не противоречить ее положениям. Данные тезисы и утверждения детально отражены во второй части первого пункта 5-й статьи Конституции. Однако если на практике будет применяться дословное понимание представленной ранее нормы, добиться сбалансированности применения национального и международного права будет практически невозможно, ввиду того, что отдельные положения Конституции будут иметь приоритет над международными нормативно-правовыми актами [1, с. 92].
Однако, как справедливо акцентировано в Комментарии к Конституции Российской Федерации, «указанное положение (ч. 2, абз. 1, ст. 15) лишь конкретизирует довод о высшей юридической силе Конституции Российской Федерации» [1, с. 94]. Дополнительно акцентируем внимание на то, что представленное ранее положение прописывает приоритет основного закона, который распространяется исключительно на национальную нормативно-правовую базу, а также на отдельные международные нормы права, интегрированные в российское законодательство.
Данный тезис находит свое фактическое подтверждение некоторыми Регламентами Конституционного суда нашей страны. В частности, обратимся к Постановлению КС РФ № 8-П13, вступившему в силу 27.03.2012 г., где говорится о том, что основной закон стра- ны не предполагает внедрение прямой процедуры заключения, реализации и полного прекращения международных правовых актов РФ. Такие вопросы относятся к компетенции федерального законодательного органа, который имеет прямые полномочия в исполнении представленных правовых положений. Отдельного внимания заслуживает и то, что такие меры не должны противоречить положениям Конституции [7].
Сегодня правоведы активно задаются вопросом, имеются ли подобные полномочия у Европейского суда по правам человека.
При анализе представленной информации становится ясно, что в современной правовой практике некоторые положения Конвенции о границах вмешательства судов во внутреннее законодательство страны являются не предельно однозначными. Отдельные положения, которые были внесены в последние годы, носят более поверхностный, субъективный характер. Подобные тенденции порождают на практике проблемы уровня признания отдельных правовых положений Европейского суда по правам человека. В частности, такой порядок должен применяться идентично ко всем странам, без оглядки, где было определено данное положение. Но на практике четкого и последовательного механизма для реализации этих мер пока нет.
Возвращаясь вновь к изучению положений ФЗ № 54 «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», можно констатировать, что российский законодательный орган признает положения Конвенции как базис для формирования и развития национальной нормативно-правовой базы, а также подтверждает исключительную юрисдикцию ЕС по вопросам толкования и реализации вышеобозначенной Конвенции (ст. 1) [9]. Данную норму нам необходимо раскрывать именно так, как она написана, в рамках заложенного в ней правового смысла; так, Конвенция – это международный акт и применять ее как акт над законом, но в соответствии с Конституцией РФ Конвенция является актом высшей юридической силы. Далее, необходимо соблюдать все окончательные решения ЕВПЧ в правоохранительной деятельности, а также в деятельности судов.
В нашей стране трактовка положений Конвенции и решений ЕСПЧ базируется на том, что это обязательные к исполнению положения, которые имеют приоритетное значение. При этом решения национальных судов должны быть всегда обоснованными. Что же касается Конституционного суда России, то он может принять такие постановления только тогда, когда данные положения не вступают в смысловой конфликт с основным законом, что также детально прописано в ст. 15 и 120 основного закона.
Резюмируя, отметим, что определяя значимость и первостепенность национального или международного права, следует руководствоваться стандартами о том, что международные положения приобретают приоритет только в том случае, если в российском законодательстве нет однозначной трактовки по анализируемому вопросу. Подобная практика применяется и к решениям ЕСПЧ КС РФ, что дает возможность улучшить качество защиты гражданских прав и свобод, но такой порядок применим только в ситуациях, когда это не противоречит основному закону России.
Список литературы Приоритет международного или национального права
- Борисов, А. Б. Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный): с комментариями Конституционного суда РФ / А. Б. Борисов. - М.: Юрлитинформ, 2009. - 495 с.
- Венская Конвенция о праве международных договоров (Вена, 23 мая 1969 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР. - 1986. - № 37. - C. 772.
- Конституция Датского королевства 1953 года // Конституции государств Европейского союза. - М.: Норма-Инфра-М, 2009. - С. 297-314.
- Конституция Республики Польша 1997 года // Конституции государств Европейского союза. - М.: Норма-Инфра-М, 2009. - С. 245-261.
- Конституция РФ: Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.: (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 01.11.2021).
- Основной закон Федеративной республики Германия от 23 мая 1949 года. - Электрон дан. - Режим доступа: https://legalns.com/cons/germany.pdf (дата обращения: 01.12.2021).
- Постановление Конституционного Суда РФ от 27 марта 2012 г. № 8-П "По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 23 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина И.Д. Ушакова" // Официальный интернет-портал правовой информации. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://legalacts.ru (дата обращения: 07.11.2021).
- Талалаев, А. Н. Право международных договоров: действие и применение договоров / А. Н. Талалаев. - М.: Наука, 1985. - 349 с.
- Федеральный закон от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ "О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней" // Официальный интернет-портал правовой информации - Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 01.11.2021).