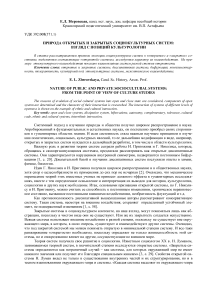Природа открытых и закрытых социокультурных систем: взгляд с позиций культурологии
Автор: Зберовская Е.Л.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 4 (35), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются причины эволюции социокультурных систем в «открытое» и «закрытое» состояние, выделяются составляющие «открытой» системы, исследуется характер их взаимодействия. На примере этнокультурного взаимодействия показано взаимовлияние систем разной степени открытости.
Открытые и закрытые системы, диссипативная система, бифуркация, комплиментарность, толерантность, культурный код, этнокультурные системы, межэтническое взаимодействие
Короткий адрес: https://sciup.org/142142395
IDR: 142142395 | УДК: 392:008(571.1)
Текст научной статьи Природа открытых и закрытых социокультурных систем: взгляд с позиций культурологии
Системный подход к изучению природы и общества получил широкое распространение в науке. Апробированный в фундаментальных и естественных науках, он постепенно приобрел своих сторонников в гуманитарных областях знания. И если системность стала важным научным принципом в изучении политических, социальных, культурных явлений, то ее дальнейшая модификация в виде, например, открытых и закрытых систем нуждается в дальнейшей разработке, в том числе в области культурологии.
Важную роль в развитии теории систем сыграли работы И. Пригожина и Г. Николиса, которые, обращаясь к самоорганизующимся системам, предлагали рассматривать как открытые диссипативные системы. Они характеризуются нарушением внутренней симметрии, подвергаются постоянным бифуркациям [1, с. 20]. Доказательной базой в изучении диссипативных систем послужили опыты в химии, физике, биологии.
Идеи Г. Николиса и И. Пригожина получили широкое распространение и в общественных науках, хотя спор о целесообразности их применения до сих пор не исчерпан [2]. Очевидно, что механическое перенесение теорий этих известных ученых не принесет должного эффекта в гуманитарных исследованиях, вместе с тем определенное осмысление и интерпретация их выводов для истории, культурологии, социологии и других наук необходимы. Итак, основными признаками открытой системы, по Г. Николи-су и И. Пригожину, можно считать ее способность к постоянным изменениям, хроническое неравновесное состояние, вызванное постоянными внешними воздействиями, необратимость флуктуаций и т.д.
Как противоположность диссипативной вышеуказанные авторы рассматривают консервативную систему. Такая система, несмотря на внешние воздействия, сохраняет определенный устойчивый элемент, не подверженный изменениям [1, с. 58].
Закрытые системы в социокультурном контексте, на наш взгляд, могут пониматься лишь как абстракция, поскольку в чистом виде они не существуют. Или же их закрытость создается искусственно. Всякая система испытывает внешние воздействия в разной степени, поскольку не существует вне окружающего мира, в котором, в свою очередь, существуют и взаимодействуют другие системы. Очевидно, что под закрытой системой мы можем понимать открытую в минимальной степени систему. И все-таки ранжирование «открытости» необходимо, поскольку определяет не только жизнеспособность этой системы, но и опосредованно влияет на другие, сосуществующие во внешнем мире.
Теория систем получила свое развитие в социологии. Известным социологом ХХ в. Н. Луманом, занимавшимся теорией систем, в значительной степени исследуются открытые системы. «Закрытые системы определяются как пограничный случай – как системы, для которых окружающий мир не имеет никакого значения или получает его благодаря специальным каналам» [3, с. 29]. Свойства открытой системы Н. Луман видел не только в существовании внутренних частей и их структурировании, но и в тесном взаимовлиянии окружающего мира и системы. «Каждая система выделяет из окружающего мира лишь себя. Поэтому окружающий мир каждой системы разный». Придавая особое значение связи «система - окружающий мир», он отмечает, что «окружающий мир всегда намного комплекснее, нежели сама система» [3, с. 245-246]. Развивая идеи Н. Лумана, можно утверждать, что свойства окружающего мира, в котором функционирует социокультурная система, имеют решающее значение для эволюции социальной системы, в том числе и для формирования в ней в определенной форме открытости.
На наш взгляд, эволюция системы может идти по линии нарастания открытости. Представляя эту линию как прогрессивное развитие, предполагаем, что для самой системы это может закончиться разрушением, прекращением ее прежнего существования и переходом в некое новое качество. Прогрессивным выступает ее энтропийное состояние. Вместе с тем неотъемлемым элементом системы будет оставаться способность к флуктуации. Динамика флуктуаций может рассматриваться как основание для ранжирования открытости системы.
Возможно ли обратное движение системы - от открытости к закрытости? Думается, что в социокультурных системах это возможно. И здесь определяющим фактором этого попятного движения также выступает окружающий мир, состоящий из множества других систем. Сила сопротивления его воздействию может стать стабилизирующим для существующей системы элементом. Очевидно, энергия внешней среды будет способствовать росту внутренней самоорганизации системы, которая приведет к иерархичности и усложненности, снижению флуктуационных способностей. Стабилизация системы неизбежно приведет к ее консервации. История человечества дает массу таких примеров, одним из которых являются индейские сообщества Америки. Под воздействием агрессивной внешней колонизационной среды индейцы активизировали свои стабилизационные элементы в виде культурных традиций, что в конечном итоге привело к закрытости индейских сообществ. Но это не уберегло их от угасания. Используя терминологию Н. Лумана, «комплексная окружающая среда» и здесь рано или поздно «сделает свое дело», разрушая закрытую (т. е. минимально открытую) систему.
Определенный интерес представляет вопрос о том, какая система подвержена обратному движению – от открытости к закрытости, а какая сохраняет свою диссипативность. Можно ли считать, что всякая система на определенном этапе своего развития снижает динамику флуктуации и становится менее открытой?
На наш взгляд, определяющим в эволюционном или деэволюционном движении системы является характер внутренних связей ее элементов. Он проистекает из присутствия двух компонентов в этой связи – автономности и комплиментарности. Под автономностью мы понимаем способность элементов к самостоятельным бифуркациям в энтропийном поле, под комплиментарностью – взаимную подсознательную притягательность элементов. Обращаясь к родоначальнику термина «комплиментарность» Л.Н. Гумилеву, мы отмечаем, что он видел в комплиментарности признак стабилизации системы, предпосылку для «возникновения этнической традиции» [4]. Диалектическое сосуществование внутрисистемной комплиментарности и автономности обеспечивает движение системы. Преобладание в характере взаимосвязи автономности способствует эволюционному движению системы в направлении открытости, усиление комплиментарности способствует консервации.
Признаки открытой и закрытой системы выделял известный политолог К. Поппер. Он не рассматривал объект своего исследования исключительно в системном плане. Вместе с тем он не мог анализировать системы вне их структурных компонентов. Ученый считал переход от закрытого общества к открытому одной из «глубочайших революций, через которые прошло человечество».
Определяя свойства открытого общества, главными он считал конкуренцию и возможность «индивидуумов принимать личные решения». Закрытое общество - это коллективистское общество, члены которого объединены полубиологическими связями – родством, общей жизнью, участием в общих дела, одинаковыми опасностями, общими удовольствиями и бедами [5]. И здесь можно увидеть в свободе выбора индивидуума проявление автономности, в развитии коллективизма – присутствие комплиментар-ности.
Некоторые пояснения, на наш взгляд, необходимы в отношении сосуществования комплиментар-ности и открытости. Мы не склонны рассматривать их как антиподы. Комплиментарность, иррациональная по своей природе, присуща и индивидуумам открытого общества. М.Б. Абсалямов отмечает, что в формах и особенностях комплиментарного поведения носитель одной культуры проявляет свое отношение к традициям, установкам и вере другой как к особым ценностям, которые сопоставимы с ценностями его культуры, проявляя при этом свою исключительность [6]. Более того, внутрикомпли-ментарная среда способствует формированию толерантности, которая является важной составной частью эволюционного движения открытого общества. Одновременно толерантность является определенным результатом развития открытой социокультурной системы, обеспечивает проявления автономности действий составляющих ее участников.
В каком случае тогда комплиментарность «работает» на открытую систему? Мы полагаем, что определяющую роль в их прогрессивном взаимодействии играет культурный код системы. Под культурным кодом понимается совокупность результатов рациональной и иррациональной деятельности индивидуумов, превращенная в культурную память поколений. Культурный код может проявляться для системы как стабилизирующий (и даже консервативный) фактор, но в союзе с автономностью существующих элементов, «подпитанный» комплиментарностью, он будет способствовать поступательному движению системы к открытости.
Важную роль в формировании и развитии культурного кода играет окружающая среда. Ее агрессивное воздействие приводит к консервации культурного кода. Более мягкое влияние других систем постепенно насыщает культурную память новыми элементами. Военные походы Александра Македонского на восток привели к столкновению двух цивилизаций, но эллинизм утверждался не столько благодаря деятельности греков-победителей, сколько благодаря «циркуляции знаний, которая разносила греческие тексты и умонастроения по тысячам городов и поселений всей ойкумены» [7, с. 137].
На вопрос о возможности движения всякой системы к закрытому состоянию можно дать положительный ответ. Для социокультурной системы снижение флуктуаций наступает тогда, когда прекращается равновесное взаимодействие системы и окружающей среды. Преобладающее воздействие внешней среды первоначально приводит к снижению флуктуаций, попыткам консервации существующих внутрисистемных связей. Затем наступает угасание системы, ее распад и возникновение новых системных связей. Примеры такого движения нам видятся в существовании империй, в частности советской, которая с середины 1920-х гг. поступательно продвигалась от относительного открытого общества к закрытому.
Таким образом, открытые системы имеют динамическую природу. Она выражается в постоянных флуктуациях, а также взаимодействии элементов системы, характеризующемся наличием автономности, комплиментарности, прежней культурной памяти.
Этнокультурные системы - более сложный вариант открытых и закрытых систем. Сложность, на наш взгляд, определяется наличием в культурном коде устойчивого элемента - этнического самосознания, выражающегося в позиционировании к внешнему миру - «мы» - «они». Не останавливаясь специально на характере этого взаимодействия, отметим, что оно является консервативной составляющей культурного кода и определенной преградой для движения системы к открытости. Вместе с тем этническое самосознание придает системе устойчивость и продлевает ее существование.
История человечества насыщена многочисленными примерами межэтнического взаимодействия разных социокультурных систем. На наш взгляд, столкновение систем можно увидеть при взаимодействии европейских переселенцев с индейскими сообществами или аборигенами Австралии. Европейцы исполняли роль агрессивной системы, коренное население американского и австралийского континентов - в определенной степени закрытых сообществ.
Древнеиндейские общества, появившиеся на американском континенте в эпоху позднего палеолита (около 30 тыс. лет назад), долгое время функционировали как закрытые системы со сложившейся родоплеменной организацией. Роль консервативного начала в культурной традиции играли существовавшие жесткие религиозные ритуалы (поклонение богам солнца, воды, плодородия и др., почитание тотемных животных, обряды жертвоприношения и т.д.), строго передававшиеся из поколения в поколение. Автономность внутренних элементов такой системы была ничтожно мала. Но постоянные войны индейских племен свидетельствовали об аморфности, отсутствии внутренней консолидации индейского сообщества как системы в целом. Войны создавали определенный бифуркационный синдром для племенных организаций доколумбовой Америки, заканчивавшийся, как правило, миграционным движением или ассимиляцией поверженной этнической группы.
Однако внутренняя комплиментарность индейского общества все же присутствовала. В ходе торгового обмена шло активное усвоение языка и технологии материального производства. Так, жители долины Мехико в начале нашей эры испытали влияние двух культурных течений, пришедших с северо-запада и востока. Одно познакомило их с техникой изготовления многоцветной керамики, украшенной повторяющимися геометрическими рисунками. Другое принесло с собой плоскодонные сосуды, большие ножки, подставки и т.д. Хорошо известные майя на заре своей истории испытали заметное влияние соседей ольмеков (например, в изготовлении керамических изделий). В.И. Гуляев отмечает, что в первом тысячелетии нашей эры на полуострове Юкотан возникает и развивается на протяжении нескольких столетий смешанная майя-тольтекская цивилизация, где пришлые центрально-американские элементы культуры постепенно растворяются в майянской среде, а завоеватели даже забывают свой язык [8].
Появление европейцев нарушило равновесное состояние между индейским сообществом как системой и окружающим миром в пользу последнего. Столкновение с агрессией европейцев привело к еще большему закрытию индейских сообществ, которые, по свидетельству Лас Касаса, перестали давать продукты испанцам, и многие «искатели золота» погибли от голода в «Новой Индии» [9].
Европейских колонизаторов тоже вряд ли можно назвать открытым сообществом. Консервативным элементом в их среде выступало христианство. На завоеванных землях Нового Света они воспроизводили ту систему общественных отношений, которая сложилась в метрополии, причем в наиболее одиозных чертах. Так, испанский король Филипп II разрешил испанским поселенцам в Перу использовать труд индейцев пожизненно, что фактически узаконило рабское существование коренного населения Америки [7, с. 400-401]. Несмотря на признание существования развитой культуры государств Ме-соамерики, европейцы не только не заимствовали, но и разрушали ее достижения.
Не только европейцы для местного населения представляли собой агрессивную внешнюю среду, но и для испанских переселенцев индейские сообщества выглядели аналогичным образом. Таким образом, индейцы и конкистадоры представляли достаточно закрытые сообщества, не комплиментарные друг другу.
Ведущим в уничтожении доколумбовой Америки стало военно-техническое превосходство европейцев. Отсутствие целостности индейского мира также было одной из причин их поражения в противостоянии с конкистадорами.
Отсутствие комплиментарности в межэтнических отношениях мы наблюдаем в другом случае столкновении систем – английских переселенцев и коренного населения Австралии. Местные племена в конце XVIII в. (начало британской колонизации) находились на родоплеменной стадии развития. Изолированность Австралии от цивилизационного процесса других континентов сформировала закрытую общественную систему, субъекты которой не были готовы к открытости. Появление европейцев подтолкнуло аборигенов к еще большей изоляции. Сохранению закрытости способствовали малая заселенность континента и возможность миграционного движения местных племен. Межэтнические контакты были редкими. Так, колониальная администрация Нового Южного Уэльса вынуждена была выкрасть двух мужчин-маури из Новой Зеландии для того, чтобы они обучили прибывших из Британии переселенцев-заключенных производству льняного полотна [10]. Агрессивность европейцев подпитывала враждебность аборигенов. Ф. Роуз отмечал, что в первой половине XIX в. скваттеры, пытаясь захватить земли для разведения овец, вели с местным населением партизанскую войну [11].
Переселенческое английское сообщество также не представлялось открытым. В Австралии колонисты воспроизводили прежние структуры власти во главе с монархом и парламентским управлением, названия английских городов и местностей, ввозили европейских животных, соблюдали религиозные традиции [12]. Окружающая среда в виде племен аборигенов не оказала на них серьезного воздействия.
Иной характер межэтнического взаимодействия можно было наблюдать в ходе колонизации зауральских территорий Российского государства. Русские переселенцы столкнулись здесь с разными по уровню общественного развития этносами: от тюркоязычных енисейских кыргызов, с раннефеодальной формой государственности и имущественным неравенством, до сомодийской группы племен, находившихся на стадии разложения родового строя. Колонизация проходила в форме мирного проникновения и установления внешних форм зависимости местного населения от российского государства (ясак). Сибирское сообщество оказалось достаточно комплиментарным к переселенцам.
Местное этнокультурное поле представлялось достаточно диссипативным. Оно сформировалось под воздействием постоянных миграционных потоков, шедших по территории Южной Сибири с III тыс. до н.э.: афанасьевцы, окуневцы, андроновцы, карасукцы, скифо-тагарский мир, хунны, тюрки и т.д. Внешняя среда оказывалась всякий раз для сменяющих друг друга жителей Сибири основным бифуркационным фактором. Культурное воздействие новых мигрантов становилось преобладающим, и сложившая система социокультурного существования подвергалась изменениям: население - ассимиляции, хозяйственный уклад усложнялся благодаря новым технологиям. Так, Таштыкская культура возникла на юге Приенисейского края (II в. н.э.) как синтез тагарской и тяньгунской культур. Археологические исследования показали, что антропологический тип таштыкцев сформировался в результате смешения представителей этих двух этносов [13].
Таким образом, сибирское этнокультурное поле выглядело достаточно аморфным, неконсолидированным. Подобную картину мы наблюдали в Месоамерике накануне европейской колонизации. Однако сибирский мир формировался под постоянным воздействием разных по социокультурному облику этносов. Например, кочевников хунну и насчитывающих многовековую историю земледелия и государственности китайцев [14]. Он оказался более приспособленным для внешних воздействий, хотя отдельные его элементы (например, енисейские кыргызы) не представляли собой открытые сообщества.
Русские колонисты, являясь явным возбудителем неустойчивости для сибирского мира, не проявляли чрезмерной агрессии. Устанавливая крепости-остроги, они долгое время вели оборонительные действия против отрядов местных «князцов», недовольных русским проникновением. Однако в XVIII в. растущее русское присутствие в Сибири стало главным фактором, изменившим этнокультурный облик региона.
На протяжении последующих столетий Сибирь сохранилась как открытая система, принимающая все новые добровольные и принудительные миграционные потоки. Отсутствие здесь крепостного права сохраняло относительную автономность субъектов системы от центральной власти, присущая населению комплиментарность способствовала развитию толерантности сибиряков по отношению к новым переселенцам.
Таким образом, рассмотрение природы социокультурных систем позволяет заключить, что состояния «открытости» и «закрытости» обеспечивают важнейшие составляющие ее жизнедеятельности – эволюцию и стабилизацию. Любая система по мере развития будет стремиться к стабильности, укрепление которой (а значит, и движение к закрытости) во многом определяют внешняя среда и внутрисистемная комплиментарность. В итоге культурное пространство (окружающий мир), взаимодействующее с системой, оказывает решающее влияние на ее движение к более или менее открытому существованию.