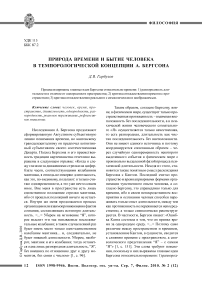Природа времени и бытие человека в темпорологической концепции А. Бергсона
Автор: Гарбузов Д.В.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 (12), 2010 года.
Бесплатный доступ
Проанализированы главные идеи Бергсона относительно времени: 1) разнородность дли- тельности в отличие от однородности пространства; 2) критика отождествления времени с про- странством; 3) критика отождествления реального с символическим и воображаемым.
Человек, время, пространство, длительность, однородность, разнородность, реальное переживание, рефлексивное мышление
Короткий адрес: https://sciup.org/14974379
IDR: 14974379 | УДК: 115
Текст научной статьи Природа времени и бытие человека в темпорологической концепции А. Бергсона
Исследования А. Бергсона продолжают сформированную Августином субъективную линию понимания времени, но кантовскому трансцендентализму он предпочел когнитивный субъективизм своего соотечественника Декарта. Подход Бергсона и его преемственность традиции картезианства отчетливо выражены в следующем отрывке: «Когда я слежу глазами за движениями стрелки на циферблате часов, соответствующими колебаниям маятника, я отнюдь не измеряю длительность, как это, по-видимому, полагают: я только считаю одновременности, а это уже нечто совсем иное. Вне меня в пространстве есть лишь единственное положение стрелки маятника, ибо от прошлых положений ничего не остается. Внутри же меня продолжается процесс организации или взаимопроникновения фактов сознания, составляющих истинную длительность. <...> Уберем на мгновение “Я”, которое мыслит эти так называемые последовательные колебания; в таком случае всякий раз будет иметь место только одно-единственное колебание маятника... и, следовательно, не будет никакой длительности. Уберем, наоборот, маятник и его колебания; тогда останется одна лишь разнородная длительность, “Я”, без внешних по отношению друг к другу моментов, без связи с числом» [1, с. 96].
Таким образом, согласно Бергсону, вовне, в физическом мире, существует только пространственная протяженность – взаимная вне-положность без последовательности, а в психической жизни человеческого сознательного «Я» осуществляется только качественная, то есть разнородная, длительность как чистая последовательность без внеположности. Они не имеют единого источника и поэтому координируются спонтанным образом – через случайную одновременность некоторого выделенного события в физическом мире с произвольно выделенной фазой процесса психической длительности. Исходя из этого, становится также понятным смысл расхождения Бергсона с Кантом. Последний считал пространство и время априорными формами организации чувственного опыта человека, а согласно Бергсону, это справедливо только для времени, ибо в своем непосредственном восприятии и осознании человек способен переживать только опыт длительности, между тем как протяженность не переживается непосредственно, а только символически реконструируется. В частности, Бергсон пишет: «Ошибка Канта состояла в том, что он принял время за однородную среду. <...> Поэтому само различие между пространством и временем, установленное Кантом, в сущности, сводится к слиянию времени с пространством, а символического представления “Я” – с самим “Я”» [1, с. 151]. Эти слова требуют пояснения, поскольку в них выражены главные идеи Бергсона относительно времени: 1) разнород- ность длительности в отличие от однородности пространства; 2) критика отождествления времени с пространством; 3) критика отождествления реального с символическим и воображаемым.
-
1) Разнородность длительности в отличие от однородности пространства. Бергсон определяет пространство понятиями количества и однородности, а время – понятиями качества и разнородности, которые, собственно, выступают у него как две пары синонимов. В этом он видит свое главное открытие, поскольку до него и в обыденном мировоззрении, и в научных теориях время, как и пространство, рассматривалось в качестве однородной, количественно измеряемой среды. Он пишет: «Но если определить пространство как однородную среду, то кажется, что всякая однородная и бесконечная среда, наоборот, есть пространство. <...> Тем не менее, время обычно рассматривается как бесконечная среда, отличная от пространства, но подобно ему однородная. <...> Уместно поэтому спросить: не является ли время, представленное как однородная среда, незаконнорожденным понятием, полученным путем введения идеи пространства в область чистого знания?» [1, с. 92]
Когда Бергсон говорит об однородности пространства, то он имеет в виду, что реальность внешнего физического мира представляет собой бесконечное множество несовместимых и поэтому «вынужденных» располагаться рядом друг с другом отдельных автономных вещей. Эта фундаментальная множественность и составляет существо однородности пространства. Будучи однородным, пространство предоставляет возможность для проведения количественных измерений. Здесь проявляется отличие от кантовского априоризма: Бергсон не считает пространство априорной формой чувственного созерцания; однородная множественность присуща самому физическому миру и чувственность не производит ее, а именно обнаруживает в «готовом» виде. Однако проблема, согласно Бергсону, заключается в том, что, обнаруживая в мире количественную однородность пространства, люди проецируют ее на длительность своей собственной жизни и, тем самым, попадают в познавательную ловушку, поскольку «истин- ную длительность, какой ее воспринимает сознание, следовало бы... поместить среди интенсивных величин, если интенсивность может быть названа величиной. Но на самом деле длительность не есть количество, и как только мы пытаемся ее измерить, мы бессознательно заменяем ее пространством» [1, с. 96].
Что же в таком случае представляет собой «истинная» длительность? Согласно Бергсону, это «чистая разнородность». Исходя из его определения однородности через множественность, ясно, что чистая разнородность должна представлять собой фундаментальную единичность, целостную сингулярность. Иными словами, длительность как чистая разнородность предполагает предельную совместимость имеющегося в ней бытия. Предельная совместимость обозначает отсутствие необходимости в рядоположении, то есть, говоря иначе, в пространственной локализации. В частности, Бергсон пишет: «Чистая длительность вполне могла бы быть только последовательностью качественных изменений, сливающихся вместе, взаимопроникающих, без ясных очертаний, без стремления занять внешнюю позицию по отношению друг к другу. Это была бы чистая разнородность» [там же, с. 94].
Таким образом, истинная длительность, составляющая сущность времени, сама по себе, как она есть на самом деле, не может быть опредмечена рассудочным мышлением, оперирующим пространственными образами, но существует просто как непосредственное переживание своего бытия. Чистая длительность есть фундаментальное свойство сознательной жизни, присущей человеку, но, будучи принципиально нелокализуемой, она остается невидимой и постоянно подменяется фиксирующимися в ней как в зеркале пространственными образами. Без присущей человеческому бытию чистой длительности люди не могли бы воспринимать и фиксировать протяженность пространства, но зафиксировать ее саму не представляется возможным. Наши знания зафиксированы в словах языка, но вербальное, рефлексивное знание о времени производится через остановку длительности, и поэтому уже в языковом мышлении осуществляется подмена времени пространством, то есть уже изу- чая язык люди приобретают пространственное понимание времени. Наиболее аутентичное восприятие времени, согласно Бергсону, осуществляется в сновидении: «Замедляя игру органических функций, сон изменяет главным образом вид связи нашего “Я” с внешними вещами. Мы уже более не измеряем длительность, но чувствуем ее, из количества она вновь становится качеством» [1, с. 104]. В сновидении рефлексивное мышление утрачивает функцию преобладающего способа осознания, и естественно присущая человеческому бытию чистая спонтанная длительность становится доминирующей формой переживания и мировосприятия.
-
2) Критика отождествления времени с пространством. Итак, согласно Бергсону, человеческое мировосприятие и самосознание устроены таким образом, что в них постоянно происходит подмена времени пространством. Это объясняется рядом причин, которые можно разделить на внутренние и внешние. К внутренним причинам относится естественно присущее человеческому мышлению свойство упорядочивать воспринимаемую чувствами реальность. Само это внесение порядка в спонтанный хаос переживаемой длительности лишает ее своей собственной природы: «Устанавливая порядок в последовательности, мы тем самым превращаем ее в одновременность и проецируем в пространство» [там же, с. 94]. В частности, рассудочное упорядочение восприятия и переживания осуществляется двумя способами – количественно-математическим и вербально-рефлексивным. В первом случае сама идея числа и связанная с ней процедура счета создают формальную необходимость понимания реальности как структурно множественной, а следовательно, принципиально пространственной. Он пишет: «Если время в представлении рассудочного сознания есть среда, в которой наши состояния сознания четко следуют друг за другом, так, что мы их можем считать; если, с другой стороны, наше понимание числа распыляет в пространстве все, что может быть непосредственно подвергнуто счету, то следует предположить, что время, понятое как среда, в которой совершается процесс различения и счета, есть не что иное, как пространство» [там же, с. 88].
Во втором случае вербально-рефлексивное объяснение реальности осуществляется способом абстрагирования, отвлечения от переживания чистой длительности, которая в этом случае насильственно останавливается и проецируется в искусственно сконструированные символические миры, в которых временная последовательность заменена пространственной рядоположенностью. Эти рефлексивные символические миры являются, таким образом, квазифизическими, поскольку сосредоточенная на внешнем мире мысль строит их по аналогии с пространственной физической реальностью. Однако если провести мысленный эксперимент и представить себе существо, живущее в полной пустоте, то есть лишенное возможности воспринимать пространственные образы внешнего мира, то его опыт восприятия и переживания не мог бы содержать идею множественности и представлял бы собой чистое темпоральное самосознание без какой бы то ни было пространственной примеси. Бергсон пишет об этом следующим образом: «Итак, можно постичь последовательность без различения; ее можно понять как взаимопроникновение, общность, как внутреннюю организацию элементов, каждый из которых представляет целое и отделяется от него только актом мышления, способного абстрагировать. <...> Но мы, привыкшие к идее пространства, даже преследуемые ею, бессознательно вводим ее в наше представление о чистой последовательности; мы рядополагаем состояния сознания и воспринимаем их одновременно, не одно в другом, но одно рядом с другим; короче, мы проецируем время в пространство...» [1, с. 93].
Таким образом, пространственное понимание времени связано не только с человеческим способом мировосприятия и самосознанием, но и с пространственной структурой внешней реальности, которая проецируется на внутренний мир и отражается в нем, как в зеркале. Инструментом такого проецирования является вероятностная одновременность событий, происходящих в физической и психической реальностях: «Существует реальное пространство без длительности, в котором все явления возникают и исчезают одновременно с состояниями нашего сознания. Существует реальная длительность, разнородные элемен- ты которой взаимопроникают, но каждый момент которой можно сблизить с одновременным с ним состоянием внешнего мира... а связующей нитью между этими двумя элементами, пространством и длительностью, является одновременность, которую можно было бы определить как пересечение времени с пространством» [1, с. 97].
Причем, согласно Бергсону, не только пространственная протяженность проецируется на внутреннюю длительность и отождествляется с ней, но имеет место и обратный процесс. Он пишет: «Мы воспринимаем материальный мир, и это восприятие – правильно или нет – кажется чем-то одновременно существующим и в нас, и вне нас. <...> Каждому моменту нашей внутренней жизни соответствует, таким образом, момент нашего тела и всей окружающей нас материи. <...> Постепенно мы распространяем эту длительность на весь материальный мир. <...> Так рождается идея вселенской длительности, то есть идея безличного сознания, служащего соединительным звеном между всеми индивидуальными сознаниями и, равным образом, между ними и остальной природой» [2, с. 48]. Таким образом, согласно Бергсону, если проецирование внешней протяженности на внутреннюю длительность приводит к подмене времени пространством, то обратная проекция приводит к бессознательному, имплицитному утверждению наличия в мире вселенского сознания.
-
3) Отождествление реального с символическим и воображаемым. Таким образом, согласно Бергсону, взаимопроективные отношения между временем и пространством постоянно воспроизводят ситуацию подмены понимания реального бытия его символическими и воображаемыми моделями. В наиболее ясной и чистой форме, по его мнению, это проявляется в теории относительности Эйнштейна, очень тонкий анализ которой он провел в одной из своих поздних работ [2]. В частности, по мнению Бергсона, эта теория целиком построена на смешении и неразличении реального и мыслимого: «Сущность теории относительности состоит в том, что она считает равноценными реальное восприятие и простые построения мысли. Реальное в ее глазах есть лишь частный случай мыслимого» [там же, с. 149].
Теория относительности отказывается от признания наличия привилегированной системы отсчета и тем самым формально, по видимости, утверждает множественность времен, принадлежащих множеству наблюдателей. Но на самом деле «есть только одно реальное время, все другие времена фиктивны. В самом деле, что такое реальное время, как не время, переживаемое или могущее быть пережитым? Что такое нереальное, вспомогательное, фиктивное время, как не время, которое не может быть пережито в действительности ничем и никем?» [там же, с. 73]. Время – это не вещь, это непосредственное переживание восприятия и осознания бытия. Каждый человек способен переживать только одну-единственную форму длительности, а все ее искажения – сжатия и растяжения в зависимости от скорости движения системы наблюдения – это только математические абстракции, никем и никогда реально не могущие быть пережитыми. «Представление множественности времен возникает в тот момент, когда мы построили предположение, будто время переживается только одним человеком или группой людей (то есть физиками, производящими измерение. – Д. Г.). Все же другие люди, ставшие с этого момента куклами, свои изменения впредь претерпевают в тех временах, которые представляет себе физик и которые ни в каком случае не могут быть реальными временами, так как они никем не переживаются, их нельзя пережить. Это воображаемые времена» [2, с. 76].
Простая совокупность координатных точек траектории движения материального объекта не может считаться временной длительностью, поскольку каждая из точек существует только одно мгновение, а затем необратимо утрачивает свое бытие. Между тем как «длительность, по существу своему, есть продолжение того, чего нет более, в том, что есть» [там же, с. 45]. Таким образом, во временной длительности Бергсон предлагает видеть особую форму чистого темпорального бытия, фундаментально отличающегося от бытия физического мира. Еще в своей ранней работе он пишет: «Материальная точка, как ее понимает механика, вечно пребывает в настоящем, но для живых тел – вероятно, а для сознательных существ – несомненно, – прошлое является реальностью. Прошедшее время ничего не прибавляет и не убавляет в системе сохранения энергии, но для живого существа и тем более для существа, одаренного сознанием, это, безусловно, приобретение» [1, с. 117]. Иными словами, время – это особая форма не физического, а «виртуального» сохранения бытия путем «накопления» не экстенсивных, локализованных в пространстве, а интенсивных и нематериальных результатов длящегося существования.
Важное уточнение этой идеи содержится в его интерпретации теории относительности. Почему физическая теория приходит к идее множественности времен в соответствии с множественностью точек отсчета наблюдения? Потому что не может выйти за очень ограниченные физические границы конкретного наблюдателя, которым может быть любой человек. Поэтому приходится проецировать бесконечную Вселенную в одну точку, занимаемую наблюдателем, и при этом неизбежно возникают перспективные искажения реальных параметров бытия. Если же предположить существование наблюдателя, соразмерного целому бытию, то для него никаких искажений в пос- ледовательности и одновременности, о которых говорит теория относительности, существовать не будет. В частности, Бергсон пишет: «Нужно... различать два вида одновременности и два вида последовательности. Первый вид внутренне присущ событиям, составляет часть их материала, происходит от них. Другой же только накладывается на них наблюдателем, высшим по отношению к системе. Первый выражает некоторое свойство самой системы; он абсолютен. Второй меняется, относителен, фиктивен; он зависит от расстояния между часами, он обусловлен целой шкалою скоростей...» [1, с. 84]. Таким образом, если мы будем настаивать, что существует темпоральное бытие Вселенной, что физический мир имеет временную длительность, то это возможно только при условии, что бытие мира осознает себя, что существует глобальный наблюдатель, накапливающий длительность.
Оценивая в целом теорию Бергсона о времени как чистой длительности сознания, стоит особо выделить два момента. Во-первых, Бергсон провел очень убедительный анализ соотношения времени и пространства и доказал, что первое в отличие от второго не может рассматриваться как однородная среда рядоположенных элементов, но представляет собой нелокализованное единство качественно разнородных состояний. В этом заключается бесспорный вклад Бергсона в темпорологическую теорию. Однако, во-вторых, Бергсон вслед за Декартом слишком жестко разграничил внутренний мир психической длительности и внешний мир физической протяженности, так что время оказывается не спонтанным, естественным устройством бытия в целом, а неким искусственным, субъективным произведением психической жизни человека.