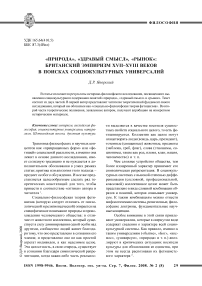«Природа», «здравый смысл», «рынок»: британский эмпиризм XVII-XVIII веков в поисках социокультурных универсалий
Автор: Яворский Дмитрий Ромуальдович
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 (8), 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье излагаются результаты историко-философского исследования, посвященного выявлению социокультурного содержания понятий «природа», «здравый смысл» и «рынок». Текст состоит из двух частей. В первой автор представляет читателю теоретический фундамент своего исследования, который им обозначен как «социально-философская теория фетишизма». Во второй части теоретические положения, заявленные автором, получают апробацию на конкретном историческом материале.
Эмпиризм, английская философия, социокультурные универсалии, натурализм, шотландская школа, духовная культура
Короткий адрес: https://sciup.org/14974250
IDR: 14974250 | УДК: 165.64(410.5)
Текст научной статьи «Природа», «здравый смысл», «рынок»: британский эмпиризм XVII-XVIII веков в поисках социокультурных универсалий
Трактовка философских и научных концептов как «превращенных форм» или «фетишей» социальной реальности, а именно она лежит в основе данного исследования, имеет солидную традицию и не нуждается в дополнительном обосновании в узких рамках статьи; критика или апология этого подхода – предмет особого обсуждения. И все же представляется целесообразным сделать ряд теоретических констатаций для того, чтобы привести в соответствие «оптики» автора и читателя 1.
Социально-философская теория фетишизма (которую следует отличать от психологической и религиоведческой) опирается на специфическое понимание природы и происхождения человеческого общества: в отличие от животного коллектива, который существует в силу доминирования одной особи над другими, сообщество людей живет благодаря тому, что оно представлено в сознании его членов; и представлено оно не как простой агрегат индивидов, а как неделимое целое. Эта целостность, в свою очередь, существует в сознании благодаря символической репрезентации, когда какая-либо часть реальнос- ти выделяется в качестве носителя сущностных свойств социального целого, то есть фетишизируется. Коллектив как целое могут олицетворять люди (вождь, царь, президент), тотемные (священные) животные, предметы (эмблема, греб, флаг), слова (этнонимы, со-ционимы, такие как род, племя, клан, нация, человечество) и т. п.
Чем сложнее устройство общества, тем более изощренный характер принимает его символическая репрезентация. В социокультурных системах с высокой степенью дифференциации (сословной, профессиональной, классовой) коллективное целое может быть представлено в виде сложной комбинации образов и понятий, которая описывает универсум. К таким комбинациям можно отнести мифологические системы, религиозные, философские доктрины, фундаментальные научные концепции.
Особое внимание в этой связи привлекают универсалии, которые в свернутом виде содержат сведения о характере всей социокультурной системы. Как правило, именно к таким универсалиям («бытие», «Бог», «космос», «универсум», «природа» и т. п.) апеллируют в критических ситуациях носители культуры для обоснования ее единства, при этом не всегда распознавая их фетишистского характера 2.
Редукция смысла отвлеченных понятий к социальной реальности как исследовательский прием, на наш взгляд, обладает высоким эвристическим потенциалом для понимания целого ряда явлений в истории философии, таких как смена философских парадигм (при их равноценности по критериям логической и эмпирической оснащенности), появление в философском обороте новых и забвение бытовавших категорий. При этом она не вынуждает исследователя отказаться от иных стратегий интерпретации исторического материала и служит дополнением к другим методологическим приемам. В данной статье предпринимается попытка применить этот подход для выяснения социокультурного содержания понятий «природа», «здравый смысл» и «рынок» в британской философии XVII–XVIII вв. и, тем самым, для обогащения знаний об этом периоде и этой линии в западноевропейской философской традиции.
Как видно, применяемая здесь исследовательская стратегия требует соотнесения изучаемых философских построений с культурно-историческим контекстом. Поэтому рассмотрение понятийного аппарата британского эмпиризма Нового времени следует начать с уточнения устоявшегося положения о том, что новоевропейская культура является целостной культурной формацией (гештальтом), пришедшей на смену средневековой. Последовательное расположение этих формаций на историческом векторе подразумевает как их преемственность, так и различие. Преемственность состоит в том, что обе культуры (или оба исторических этапа) реализуют разными способами одну – универсальную – модель социокультурной целостности. Речь идет, с одной стороны, об известном стремлении средневековой Католической церкви к вселенской духовной гегемонии, к построению христианского мира (Pax Christiana, Christendom), а с другой стороны, о не менее очевидной тенденции западноевропейской культуры Нового времени к распространению своего экономического, культурного и политического влияния на все открываемые ею территории. Однако эти социокультурные модели представляют собой различные способы решения проблемы универсализации (глоба- лизации) и предлагают для этого разные средства. Поскольку в фокусе данного исследования находятся процессы, протекающие в сфере духовного производства, постольку внимание следует сосредоточить не на политических и экономических, а на символических средствах.
В средневековой Западной Европе символическая поддержка универсальных амбиций культуры обеспечивалась теологическими средствами. Символическая репрезентация социокультурной целостности Pax Christiana осуществлялась при помощи так называемого теоцентризма. Все сущее, в том числе и в социальном его измерении, рассматривалось как изначально (или по сути) единое, залогом чему является единство Бога, однократность миротворения, общность предка в лице библейского Адама и исторической судьбы всех народов. Важнейшую, если не центральную, роль в работе этой символической модели играло учение об Искуплении, которое подразумевало единство «человеческой природы», оскверненной первородным грехом, и уникальность Спасителя, чья жертвенная смерть и пролитая кровь восстанавливает поврежденную природу и создает условия для ее преображения. В рамках этой символической системы рознь между людьми предстает космическим дефектом, а не проявлением вечного закона (как это было, скажем, у Гераклита). В таком случае универсальные амбиции Католической церкви – как утверждалось, носительницы неповрежденной христианской традиции – суть онтологически и теологически обоснованное стремление к исправлению этого исторического дефекта.
Однако в период позднего средневековья универсальный проект западного христианства столкнулся с мощным и, как оказалось, роковым историческим вызовом. Прежде всего стало ясно, что силовое решение проблемы вселенской интеграции несостоятельно: крестоносное движение на Восток (как мусульманский, так и православно-христианский) иссякло, более того, на восточных рубежах Запад вынужден был перейти к обороне перед лицом турок-османов; присоединение православия к Риму под видом унии потерпело неудачу и высветило в исторической перспек- тиве рождение нового субъекта европейской политики – России. Не оправдала надежд Римской церкви и попытка философов-доминиканцев унифицировать католическую теологию на основе христианизированного аристотелизма: многие западноевропейские университеты сошли с via antiqua Фомы Аквинского и стали на via moderna Уильяма Оккама. Сосредоточив основные ресурсы на внешней экспансии, Католическая церковь упустила контроль над состоянием дел внутри Западной Европы, что обернулось серией религиозных расколов: Великой схизмой 1378–1417 гг. и Реформацией. Медленно, но верно в сознание интеллектуальной элиты Запада стала проникать мысль о невозможности обосновать универсализм конфессиональными средствами и о необходимости искать символы единства за пределами теоцентрического лексикона.
В условиях упадка теоцентризма начинает формироваться новое консенсусное символическое поле – натурализм , центром которого стало понятие природы. Генератор этого поля – интуиция единства природы ; на фоне этого единства взору открывается борьба культур, народов, государств, церквей. Вывод напрашивался сам собой: религий много – природа одна, религии разделяют – природа объединяет. Разумеется, эта интуиция появилась не в одночасье: в ожидании своего времени она ютилась на периферии интеллектуальной жизни средневековой культуры, в тени схоластического теоцентризма; и только эскалация межконфессиональных конфликтов побудила вывести ее на свет.
Под прикрытием ренессансного пантеизма натурализм отвоевывает себе плацдарм в поле европейской философии. Рождающееся естествознание формирует новую картину мира, основанную на импликациях единства природы, изотропности и изохронности ее законов. Правоведы и моралисты отделяют божественное от естественного в законах и нравах, а затем приступают к обоснованию автономии естественного. Художники и литераторы создают визуальный образ природы и наделяют его эстетическим содержанием. Философы, синтезируя достижения естествоиспытателей, правоведов, моралистов и художников, формируют новое понятие природы как совокупного сущего, отыскивают в природе основания морали, религии, права, познавательной деятельности (подробнее об этом см.: [7]).
Народы Британских островов частично разделили судьбу континентальной Европы, частично столкнулись с неведомыми другим вызовами и шансами. Кризис принципов и символической модели единства, выработанных средневековой культурой, они в полной мере ощутили на себе в эпоху Реформации, когда по инициативе короля английская церковь разорвала каноническую связь с Римом, став, таким образом, обособленной, национальной – Англиканской. Помимо вызванного этим разрывом конфликта между сторонниками папской и королевской церквей, конфессиональная жизнь страны усложнилась появлением многочисленных приверженцев кальвинизма – пуритан, образовавших самостоятельные конгрегации и общины, которые враждовали и с католиками, и с англикана-ми, и друг с другом. Эта смута достигла кульминации в период Английской буржуазной революции 1640–1688 годов. Общность веры была бесповоротно утрачена и сменилась изнурительными, а в некоторых случаях и безысходными религиозными конфликтами. Стало ясно, что апелляции к религиозным ценностям и оперирование религиозной символикой не только не способствуют укреплению социальных связей, но напротив, провоцируют усиление разногласий и обострение противостояния.
В этой ситуации предпринимается попытка обойтись без символических посредников и прорваться к самой социальной ткани, к непосредственности межличностных интеракций, сумма которых давала бы в итоге социальное тело. Так возникает идея «общественного договора». Однако призрак основополагающего прямого социального действия ускользает в прошлое: «общественный договор» подобно мифическим космогониям описывает не наличное состояние, а время творения, к которому вернуться уже нельзя. Поэтому в поле зрения теоретиков общественных отношений снова начинают маячить символические посредники – социокультурные универсалии, способные, как могло показаться, вывести к скрытым основаниям социального единства.
Сначала новая британская философия, вслед за континентальной, обращается к символу «природа». Однако если континентальные мыслители, рассуждая о природе, имели в виду прежде всего совокупность универсальных антропологических характеристик, сближающих людей, а также общую для всех среду обитания, в английской философии природа предстает в виде антагониста человека. Так, у Ф. Бэкона природа уподобляется крепости, которую человек должен взять приступом, используя в качестве штурмового орудия науку [1, с. 239]. В философии Т. Гоббса природа представлена в понятии «естественного состояния», то есть состояния всеобщей вражды [2, с. 93–97]. Таким образом, природа способствует интеграции людей в основном как негативный, внешний фактор.
В поисках внутренних и позитивных факторов единства британская философия обращается к гносеологии, пытаясь ответить на вопрос, каковы формы восприятий и суждений, дающие всеобщее и необходимое знание. Нетрудно усмотреть здесь связь между гносеологической и социокультурной проблематикой: «знание», «истина», «идея» и другие гносеологические категории суть превращенные формы всеобщего в межчеловеческих отношениях, и в этой связи они могут рассматриваться как социокультурные интеграторы.
Задачу выявления форм всеобщности с самого начала крайне усложнил Дж. Локк, подвергнув критике концепцию «врожденных идей». Предложенное им решение проблемы интерсубъективности знания оказалось слабее критического потенциала его же собственной философии, чем остроумно воспользовались его последователи – Дж. Беркли и Д. Юм. Они разрушили до основания фундаментальные для новоевропейской философии онтологические и гносеологические концепты – субстанцию и субъект. В особенности деструктивной оказалась критика Д. Юмом концепции субъекта, которая показала несостоятельность посылки Локка об общности «человеческих умов».
В ситуации гносеологического кризиса, чреватого, как казалось, социальным распадом, британский эмпиризм обращается к понятию «здравого смысла» (common sense). Уже само выражение «common sense» красноречиво свидетельствует о тех надеждах, которые с ним могли связывать интеллектуалы.
Детальную разработку концепция «здравого смысла» получила у философов так называемой Шотландской школы и, прежде всего, у ее основателя Томаса Рида [4]. Рид показал, что преодолеть радикальный скептицизм Д. Юма можно только путем критики, тех оснований эмпиризма, которые были заложены Локком. Главным дефектом локковского эмпиризма шотландский философ считал его исходную посылку о том, что восприятие субъектов реальности опосредовано «идеями». Эта посылка, по его мнению, ничем не обоснована, и в противовес ей можно с той же силой убедительности выдвинуть тезис о возможности непосредственного восприятия. И если обе посылки имеют равные права на истинность (это признавал сам Рид), то следует искать внешний по отношению к ним критерий. Таким критерием, согласно Риду, и является «здравый смысл».
Здравый смысл, согласно Риду, – то, чем всякий человек (в том числе и философ) руководствуется в повседневной жизни. Повседневность и здравый смысл составляют необходимые условия существования философа, которые тот не может игнорировать. Рид остроумно замечает, что если бы скептик действительно сомневался в существовании субъекта (себя) и объекта (внешнего мира), то ему бы не пришло в голову изложить свои выводы на бумаге и тем более сообщать их другим [4, с. 89].
Т. Рид, конечно же, блестяще справился с опровержением скептицизма, но заплатил за это широтой философского взгляда. Он прав в том, что философ должен принимать во внимание условия своего собственного философствования. Но проблема заключается в том, что эти условия являются исторически и культурно ограниченными, они составляют ситуацию «здесь и сейчас». По этой причине философия «здравого смысла» рискует принять установки одной культуры за всеобщие, что и произошло, когда Т. Рид попытался сформулировать априорные (гносеологические и этические) положения «common sense».
В духовной (религиозной, политической, правовой) культуре Англии проблема всеоб- щности как проблема проявленности целого в частях ставится в контексте проблемы индивидуальной свободы и поэтому в конечном счете рассматривается как вопрос о том, какая минимальная мера всеобщности необходима для сохранения социально-культурной целостности и какую максимальную меру всеобщности возможно допустить, чтобы не нанести ущерб автономии личности. Английская революция принесла в жертву свободе джентльмена королевскую власть и религию. В этой связи «здравый смысл» нельзя рассматривать как произвольную конструкцию философов, даже учитывая то обстоятельство, что те некорректно выдавали сугубо философскую конструкцию за понятие естественного языка, в котором якобы выражена недостающая философам мудрость непосредственного знания о мире. На самом деле, в социальной практике «здравый смысл» приобретает весьма строгие формы общественно приемлемого поведения, культивируемого при помощи воспитания и контролируемого в жестких рамках «хороших манер». В этой связи требовало объяснения то обстоятельство, что провал попытки дать философскую экспликацию «здравого смысла» не вызвал наступления его социальной дисфункции.
К разгадке тайны устойчивости социальных связей при отказе от их идеологической поддержки английская философия приступила с помощью идеи «невидимой руки», предложенной Д. Юмом и разработанной его учеником и душеприказчиком А. Смитом.
Хорошо видно, как решение этого вопроса вызревает в этике Смита. В трактате «Теория нравственных чувств» моралист задается вопросом о том, возможно ли общество без взаимной симпатии людей. Ответ, данный им, открывал новые горизонты: «Общество все-таки может в подобном случае существовать, как оно существует среди купцов, осознающих пользу его и без взаимной любви» [6, с. 101]. Сложное переплетение корыстных мотивов образует, по мысли Смита, систему с обратной связью, осуществляющую саморегуляцию общества: «По-видимому, какая-то невидимая рука заставляет их принимать участие в таком же распределении предметов, необходимых для жизни, какое существовало бы, если бы земля была распределена поровну между всеми населяющими ее людьми» [там же, с. 185].
В прославленном трактате «Исследование о природе и причинах богатства народов» А. Смит называет имя обладателя этой «невидимой руки» – рынок. При этом, как верно замечает автор исследования по истории идеи рынка П. Розанваллон, английский экономист существенно трансформирует привычное для его современников понятие рынка: рынок оказывается уже не локализованным пространством обмена, заключения торговых сделок, а моделью общества как такового, «оператором социального порядка», причем не только в границах государства, но и на международной арене [5, с. 92–93].
Таким образом, поиски социокультурных универсалий в британской философии, пройдя через конструирование натуралистического дискурса и размышления о содержании здравого смысла, увенчались появлением своеобразной символической модели, где центральное место занял концепт «рынок», а жизнь общества на всех его уровнях и во всех сегментах стала рассматриваться по аналогии с рыночными отношениями.
Список литературы «Природа», «здравый смысл», «рынок»: британский эмпиризм XVII-XVIII веков в поисках социокультурных универсалий
- Бэкон, Ф. Сочинения в двух томах. Т. 1/Ф. Бэкон. М.: Мысль, 1977. 567 с.
- Гоббс, Т. Сочинения в 2 томах. Т. 2/Т. Гоббс. М.: Мысль, 1991. 748 с.
- Пигалев, А. И. Призрачная реальность культуры: (Фетишизм и наглядность невидимого)/А. И. Пигалев. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003. 354 с.
- Рид, Т. Исследование человеческого ума на принципах здравого смысла/Т. Рид. СПб.: Лаб. метафиз. исслед. филос. фак. СПбГУ: Алетейя, 2000. 352 с.
- Розанваллон, П. Утопический капитализм. История идеи рынка/П. Розанваллон. М.: Новое лит. обозрение, 2007. 256 с.
- Смит, А. Теория нравственных чувств/А. Смит. М.: Республика, 1997. 351 с.
- Яворский, Д. Р. «Природа» как символ единства: Становление натуралистической парадигмы социокультурного универсализма в западноевропейской философии/Д. Р. Яворский. Волгоград: Изд-во ФГО ВПО ВАГС, 2007. 164 с.