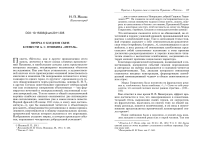Притча о блудном сыне в повести А. С. Пушкина «Метель»
Автор: Жилина Наталья Павловна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.9, 2011 года.
Бесплатный доступ
Рассматривая художественный строй и семантику пушкинской повести, автор показывает, что ее центральным ядром является известная евангельская притча в несколько измененном варианте - «о блудных детях», проходящих трудный путь от одного аксиологического полюса к другому - от своеволия к смирению, что и определяет глубинную психологическую основу всего ее сюжетного развития.
Пушкин, метель, блудный сын, своеволие, смирение
Короткий адрес: https://sciup.org/14748820
IDR: 14748820
Текст научной статьи Притча о блудном сыне в повести А. С. Пушкина «Метель»
П овесть «Метель», как и другие произведения этого цикла, значится в числе самых сложных произведений Пушкина, и наибольшую загадку здесь представляет авторская позиция, неоднократно являвшаяся объектом исследования. Как уже было установлено, в художественной системе этого произведения «основной повествователь многолик и изменчив. Он попеременно склоняется к плану сознания то одного героя, то другого»1, временами в его голосе обнаруживаются черты рассказчицы, девицы К. И. Т., в других случаях повествование принимает нейтральный тон или становится совершенно объективным — так формируется нечеткий и неопределенный, неуловимый в целом авторский лик. Тем не менее в общей стилистической картине наиболее явными оказываются две интонационные составляющие, заметные уже в самом начале повести. Первой фразой («В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную...»), как бы выводящей читателя в объективную реальность, обнаруживается несомненная и явная принадлежность повествователя к общему национальному целому, органической частью которого являются и его персонажи. Изображение уездного мирка, в котором происходят события, окрашивает «экспрессия добродушной усмешки»2:
...жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович Р**. Он славился по всей округе гостеприимством и радушием; соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по пяти копеек в бостон с его женою, Прасковьей Петровною, а некоторые для того, чтоб поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и семнадцатилетнюю девицу3. Эта интонация сменяется хотя и не обнаженной, но отчетливой и хорошо уловимой иронией, пронизывающей весь рассказ о влюбленной паре. Уже в экспозиции темы главной героини заявляет о себе сентиментально-романтическая тема («стройную, бледную...»), усиливающаяся в дальнейшем, а весь рассказ об отношениях влюбленных представляет собой схематичное изложение к тому времени достаточно распространенного и хорошо известного читателям сюжета о несчастных влюбленных, соединению которых мешают причины социального характера.
Благодаря иронической интонации, возникающей в повествовании, восприятие событий самими персонажами и авторская их оценка оказываются в сознании читателя разграниченными. Так, знаками авторского отношения становятся вводные конструкции, формирующие своеобразный интонационный «сдвиг» в общем повествовательном строе:
Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена. <...> Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равною страстию... (102— 103).
Как отметил в свое время В. В. Виноградов, эффект иронии достигается и тем, что «внедряющиеся в повествовательный стиль выражения самих героев, их экспрессия, их фразеология, выделяясь по своему тону из общей манеры рассказа, кажутся комическими, и их ввод в повествование представляется иронической демонстрацией стиля героев»4:
Наши любовники были в переписке, и всякий день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялися друг другу в вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. <...> Владимир Николаевич в каждом письме умолял ее предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей, которые конечно будут тронуты наконец героическим постоянством и несчастием любовников и скажут им непременно: Дети! Придите в наши объятия (103).
Благодаря такому интонационному оформлению любовный роман молодых людей предстает перед читателем в пародийно-сниженном виде, а его перипетии, изложенные рассудительной житейски-бытовой интонацией, ощущаются как нечто совершенно чуждое патриархальному укладу этого провинциального местечка. Очевидно, что ирония здесь призвана выявить и обозначить не просто устаревшие литературные формы, ставшие шаблонными, но и скрывающиеся за ними важнейшие ценностные установки: объектом ее является, прежде всего, та сентиментально-романтическая модель, которая лежит в основе поведения и образа мыслей центральных персонажей.
Немаловажным является то, что романическое начало, в сфере воздействия которого оказываются молодые люди, находится в тесной связи с мотивом чужеземного вторжения, открывающим повесть («В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную...» — 102) и продолжающим играть значительную роль в дальнейшем развитии сюжета. Трансформируясь, он переходит в иную плоскость и предстает в экспозиции как мотив иноземного влияния-.
Марья Гавриловна была воспитана на французских романах...
Так возникает в сюжете повести стилистически обозначенное столкновение двух аксиологических систем-, патриархальному образу жизни с его устойчивым укладом и национальными традициями противопоставляется новое, привнесенное извне мировоззрение, основой которого является сакрализация любовного чувства, воспринимающегося как наивысшая, не сопоставимая ни с чем иным ценность.
Противоположность ценностных парадигм, сопоставленных в повести как на повествовательном, так и на сюжетном уровне, особенно ярко обнаруживается в ситуации «за- прета». В мыслях молодых людей («если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее?» — 103) отчетливо просматривается логика развития романического сюжета, иронически интонированная повествователем. Центральное место в этих рассуждениях занимает понятие воли-, отвергая родительскую волю, ограничивающую их свободу, молодые люди решаются на рискованные поступки ради достижения заветной цели и утверждения своей собственной воли.
Идею «любви» европейской культуры, разработанный ею язык наивно используют «богатая невеста» и «бедный прапорщик», чтобы осуществить сюжет свободы в своей жизни5.
В описании побега главной героини из родного дома включенность автора в определенную ценностную парадигму становится особенно ощутимой: здесь совершенно исчезает иронически-пародийная интонация, а доминантной для всего изображения становится тема гибели. Она воплощается в «ужасных мечтаниях», «безобразных, бессмысленных видениях», мучивших Машу в ночь накануне побега, в ее чувствах, переданных в авторской речи, наконец, в слове «преступница», как бы соединившем авторское восприятие с самоощущением героини:
Наступил вечер. Мысль, что уже в последний раз провожает она день посреди своего семейства, стесняла ее сердце. Она была чуть жива; она втайне прощалась со всеми особами, со всеми предметами, ее окружавшими. <...> Пришед в свою комнату, она кинулась в кресла и залилась слезами. Девушка уговаривала ее успокоиться и ободриться. Все было готово. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь... На дворе была метель; ветер выл, ставни тряслись и стучали; все казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием. <...> Метель не утихала; ветер дул навстречу, как будто силясь остановить молодую преступницу (105).
Страдая и мучаясь еще больше от той «нежной заботливости», которую проявляют озабоченные ее самочувст- вием родители, Маша все же решается на побег, «извиняя свой поступок неодолимою силою страсти» (104). Становится понятно, что поведение героини накануне побега («она укладывалась, увязывала белье и платье» — 104) может быть воспринято не только как проявление ее житейской практичности, но и как показатель внутренней, психологической несовместимости с той сентиментальноромантической моделью, которая оказала столь сильное влияние на ее намерения.
Мотив «деспотической родительской власти», заявленный в начале повести, впоследствии оказывается мнимым и полностью снимается. Как показывают дальнейшие события, благодаря образу мыслей представителей старшего поколения, конфликт «отцов и детей», намеченный своеобразным «столкновением воль», вполне мог быть разрешен мирно. Поняв во время болезни дочери, что она «была смертельно влюблена во Владимира Николаевича и что, вероятно, любовь была причиною ее болезни» (110), родители Маши изменяют свое прежнее решение и дают согласие на брак с небогатым и незнатным соседом. Немаловажная деталь: решение принимается сообща, «миром», после совета с соседями, и подкрепляется обращением к народной мудрости:
.. .наконец единогласно все решили, что видно такова была судьба Марьи Гавриловны, что суженого конем не объедешь, что бедность не порок, что жить не с богатством, а с человеком... (НО).
Такую готовность принять сложившиеся обстоятельства как проявление Высшей воли и смириться, отказавшись от воли собственной, невозможно рассматривать иначе как проявление истинной мудрости и настоящей родительской любви. Разрушительной силе своеволия, отторгающего личность от Дома — важнейшей жизненной сферы, обладающей безусловным ценностным содержанием, противостоит, как видим, аксиологическая система, глубоко укорененная в национальном сознании и национальной жизни.
Единодушно признавая случай главным двигателем сюжета повести, исследователи расходились в ответе на важнейший вопрос: орудием чего же в конечном итоге является случай — слепой и безжалостной Судьбы или благого
Провидения (в полном соответствии с финальным утверждением «благ Зиждителя закон» в балладе В. А. Жуковского «Светлана», цитата из которой стала эпиграфом к пушкинской повести)?
«Руку судьбы», организовавшую «истинную трагедию “маленького человека”» — бедного армейского прапорщика Владимира Николаевича, видит в сюжете пушкинской повести В. Г. Одиноков:
Социально и исторически детерминированная, судьба этого человека была настолько безнадежной, что, казалось, какая-то злая и безжалостная сила прилагает невероятные усилия к тому, чтобы погубить его. Жизнь и смерть Владимира в «Метели» обретают оттенок фатальной предопределенности, какой-то роковой неизбежности.
Сопоставляя повести «Метель» и «Выстрел», исследователь далее констатирует:
Все усилия Владимира обрести счастье оказались тщетными, как и стремление Сильвио стать выше той общественной ступени, на которой он оказался в связи со своим социальным и имущественным положением. А граф Б. и Бурмин получили благо буквально из «рук судьбы», ибо ни тот, ни другой не приложили ни малейшего усилия для того, чтобы достичь его6.
Сходную точку зрения высказал в свое время и Н. Я. Берковский. Сопоставляя пушкинскую повесть с новеллой Вашингтона Ирвинга «Жених-призрак» (где центральной фигурой также является подставной жених), ученый в то же время отмечает их принципиальное различие:
Новелла Ирвинга — торжество индивидуума, его ума, предприимчивости, ловкости. <...> У Ирвинга нет судьбы, стоящей над индивидуумом. Личная инициатива — вот судьба. <...> В повести Пушкина все делается случаем. Суть ее в том, что, вопреки традициям новеллы, не человек случайный, Владимир Николаевич, овладел случаем, но родовитый, богатый, блистательный Бурмин, которому случай вовсе и не нужен7.
Рассматривая случай в пушкинской повести как проявление «социальной судьбы», исследователь видит в этом вопиющую несправедливость:
Разыгравшаяся метель, стихия случая и хаоса, выбрасывает счастливый жребий Бурмину и безнадежно запутывает Владимира Николаевича, которому случай только бы и дозволил добиться своего. Случай — плохой слуга, когда его зовут и ищут, и он же — шаловливый помощник, когда превосходно могут обойтись без его трудов. Бурмину не нужно было ни метели, ни приключения в Жадрине, ни самозванства, чтобы достигнуть собственного счастья8.
Анализ Н. Я. Берковского позволяет обратить внимание на важнейшую особенность: сюжетной основой новеллы как жанра является борьба человека с обстоятельствами и подчинение их своим целям, победа над ними, что в данном случае подчеркивается и названием, которое выводит в центр фигуру активного и сильного героя.
Свобода для героя новеллы — личное своеволие в борьбе с неволей обстоятельств9.
В названии же пушкинской повести, как точно замечено Н. Н. Петруниной, делается акцент «на протяженном во времени событии, определяющем судьбы его участников и — главное — становление их характеров»10.
В этом контексте хорошо видно, что само представление о путях достижения счастья в пушкинской повести оказывается по сравнению с новеллой иным, совершенно противоположным. В новелле счастье героем завоевывается — у Пушкина оно может быть только даровано свыше, и все попытки завладеть им, получить его собственными усилиями заканчиваются крахом.
«В основе трагического исхода борьбы Владимира («Метель»), — писал исследователь в середине 20-х годов прошлого века, — лежит следующий непреложный закон: тот, кто полагает себя сведущим и могущим, способным действовать и творить, должен терпеть поражение, ибо поистине он и несведущ и немощен, и его усилия делать разумное и целесообразное прямо противоположны достигнутым результатам. <...> И чем энергичнее, чем увереннее действовал Владимир, тем больше было нравственное потрясение, его постигшее: даром не дается бурное столкновение человеческой воли с судьбою»11.
В соответствии с этими установками разделяются, по его мнению, и персонажи «Повестей Белкина»:
На одной стороне — Владимир и Вырин, пожелавшие ковать свое и чужое счастье своими собственными руками, а на другой — Бурмин и Лиза (героиня «Барышни-крестьянки» — Н. Ж?), которых судьба неожиданно одарила своими милостями12.
Таким образом, «настоящая метель, которая поднялась на дворе в день венчания Марьи Гавриловны и Владимира, оказалась, с одной стороны, благодетельной, с другой, показала всю тщету человеческих усилий»13. При таком прочтении метель уже не воспринимается как «стихия случая и хаоса», в ней совершенно определенно угадывается проявление Божьего Промысла. Эту же мысль высказывает и один из современных исследователей:
...именно утверждение Провидения, а не слепой судьбы как двигательной силы человеческой жизни составляет... центральную тему «Метели»14.
В художественном мире пушкинской повести, вопреки прямолинейно понятой «справедливости», но в точном соответствии с евангельскими установками, имущему прибавится, а у неимущего отнимется — «кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет» (Мф. 13:12).
Колебание психологического рисунка, возникающее от смены повествовательной позиции, обусловливает глубину и многозначность в восприятии главных действующих лиц, и каждый из них предстает перед читателем в различных, иногда даже противоположных, ракурсах. Смешной и даже отчасти нелепый армейский прапорщик, с таким увлечением примерявший на себя роль романического героя-любовника, воспринявший свою неудачу как полную жизненную катастрофу и представляющий в отчаянии, что для него теперь только «смерть остается единою надеждою» (111), уходит из жизни поистине героически, скончавшись от ран, полученных в Бородинском сражении. Легкомысленный повеса, способный безо всяких раздумий затеять игру своей и чужой судьбой, во время великой войны встает на защиту Отечества и возвращается домой с полученными в боях ранами и «с Георгием в петлице» (113). Провинциальная барышня, несмотря на свою житейскую практичность, не мыслящая своей жизни вне воображаемого мира сентиментальных романов, сочетает в себе одновременно простодушие и внутреннюю глубину, душевную стойкость и верность слову.
Безусловно, «события 1812 г. направляют судьбы героев и составляют тот фон, на котором совершаются романические происшествия, ведущие их к духовной зрелости»15. Но далеко не последняя роль в психологической эволюции героев принадлежит и метели, ставшей настоящим испытанием на их пути к счастью. При этом вопрос о «счастливой» или «несчастливой» доле, выпавшей каждому, может быть решен по-разному, в зависимости от того, как рассматривать: с точки зрения житейского здравого смысла или с позиции христианских представлений о спасении души.
Анализируя сюжет пушкинской повести, нельзя не учитывать, что тема образования и воспитания детей в русской литературе 1810—1820-х годов была одной из центральных. В первую очередь это объяснялось новым отношением к французскому влиянию, к идеям французского Просвещения, породившим не только философские течения, но и педагогические системы. После Французской революции, когда пришло время осмысления произошедших событий и их причин, в самой Франции, как отмечает исследователь, «’’философское” воспитание подверглось са- мым жестоким нападкам. Слово “философ” стало ругательством, синонимом понятий “развратник”, “безбожник”, “негодяй”». Литература теперь «стремилась продемонстрировать положительную программу — патриархальное и религиозное домашнее воспитание. <...> До России волна воспитательных повестей докатилась с некоторым опозданием и пришлась ко двору, но несколько видоизменилась. Главным источником зла стали иностранные книги и учителя-иностранцы, которые развращают детей, водя их по театрам, садам и местам светских увеселений. Иностранцам противостояли верные крепостные дядьки и няни, а также добродетельные родители, живущие в своих поместьях, вдали от столиц и сами воспитывающие детей»16. Анализ сюжетных парадигм показал, что в многочисленных повестях на тему воспитания, появившихся в России в первые десятилетия XIX века, реализовались устойчивые сюжетные схемы: счастье могло быть достигнуто героями лишь при условии правильного поведения, всегда являвшегося следствием правильного воспитания, а оно было осуществимо лишь при полном отсутствии иностранного влияния — учителей и книг17.
В противоположность этим установкам, все центральные герои «Метели» находятся под воздействием литературных штампов: идея побега, которая «весьма понравилась романическому воображению Марьи Гавриловны» (103), заимствована Владимиром из любовных авантюрных романов (что акцентировано автором и не может не быть очевидным для читателя), а в объяснении Бурмина цитаты легко распознаются уже самой героиней. В финальной ситуации пушкинские герои «демонстрируют полное падение с точки зрения нравоучительной литературы: они сознательно завлекают друг друга, заранее зная, что брак между ними невозможен. И именно на этом сверхнеправильном пути герои обретают неожиданное и, казалось, со- вершенно невозможное в их положении счастье»18. Убедительное объяснение этой парадоксальной ситуации дает О. Я. Поволоцкая:
Тайный пафос рассказа именно в том, чтобы обнаружить при внешней видимой тождественности нашей героини привычному романному штампу ее сущностное отличие от любого европейского образа. В начале своего объяснения Бурмин просто цитирует Руссо, причем очень важно, что этот заемный язык узнается героиней и ожидается ею. <...> Оказалось, что язык любви европейца был призван не с тем, чтобы завоевать сердце возлюбленной и добиться счастья, а с тем, чтобы бесповоротно и недвусмысленно отказаться от своего счастья... Герои русской прозы, приступая к любовному признанию, понимают смысл происходящего совершенно одинаково, каждый задумал свое объяснение как открытие своей тайной несвободы для счастья и любви, и доверие их друг другу, доверие исповеди, является единственным залогом того, что их чувство не книжное, заемное, а подлинное, настоящее в горькой своей безнадежности19.
Финальное объяснение в любви становится, таким образом, последним испытанием для Марьи Гавриловны и Бурмина: каждый из них, храня верность неведомому супругу, вплоть до развязки убежден, что им надлежит расстаться. Выдержав это испытание, они обретают счастье. Самосознание героев опирается на их веру в предопределенную свыше природу брака, заключающегося «на небесах», а само их понимание счастья имеет в своей основе христианские ценностные установки, важнейшей из которых является смиренное приятие Божьего мира и своего места в нем. Увидев зримые результаты проявленного своеволия, они не склонны обвинять в том, что случилось, обстоятельства или окружающих людей и не сетуют на судьбу. Воспринимая все произошедшее как наказание свыше, никто из них теперь не делает никаких попыток изменить сложившееся положение собственными усилиями. Так, Марья Гавриловна, пережившая смерть отца и гибель Владимира, поселившись с матерью в своем имении, вдалеке от столиц, поклялась «никогда с нею не рас- ставиться» (111), а на уговоры той «выбрать себе друга», «только качала головой и задумывалась» (112). Но особенно ярко несомненная душевная эволюция героев видна на примере «молодого гусарского полковника» Бурмина, о котором в финале говорится:
Он казался нрава тихого и скромного, но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесою... (114).
Показательно, что прежняя «проказа», в которой он тогда «так мало полагал важности», воспринимается им теперь как «преступная» (118). Так возникает в повести особенно ярко проявляющий себя в финале мотив вины и связанного с ней покаяния.
Конец повести возвращает читателя к эпиграфу, созданному Пушкиным из двух фрагментов баллады Жуковского «Светлана», центральные образы которых (Божий храм и черный ворон) по своей семантике составляют своеобразную антитезу:
Кони мчатся по буграм, Топчут снег глубокий... Вот, в сторонке Божий храм Виден одинокий.
Вдруг метелица кругом;
Снег валит клоками;
Черный вран, свистя крылом,
Вьется над санями;
Вещий стон гласит: печаль!
Кони торопливы
Чутко смотрят в темну даль, Воздымая гривы...
Если Божий храм, «символ Дома Господа на земле», воплощает в себе гармонию — «божественный порядок мироздания», а также «путь восхождения к духовному просветлению»20, то есть в религиозном понимании жизнь, то ворон — в народных представлениях нечистая (дьявольская, проклятая) и зловещая птица, связанная с миром мертвых, — имеет самое непосредственное отношение к символике смерти21. Застигнутый «метелицей» и сбившийся с верной дороги путник, заблудившись, рискует оказаться во враждебном пространстве и погибнуть, о чем предвещает в стихах Жуковского «вещий стон» черной птицы. Именно этого в конечном итоге смогли избежать пушкинские герои, неразрывно связанные с национальными духовными ценностями и потому сумевшие выдержать трудное испытание метелью.
Рассматривая художественный строй и семантику этой повести под таким углом зрения, можно с полным основанием утверждать, что «именно этическая проблематика составляет стержень “Повестей Белкина”»22. Более того, можно заметить, что центральным ядром ее является известная евангельская притча в несколько измененном варианте — «о блудных детях», которые проходят трудный путь от одного аксиологического полюса к другому — от своеволия к смирению, что и определяет глубинную психологическую основу всего ее сюжетного развития.
Список литературы Притча о блудном сыне в повести А. С. Пушкина «Метель»
- Виноградов В. В. Стиль Пушкина. М., 1941. С. 455.
- Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М., 1957. Т. 6. С. 102.
- Поволоцкая О. Я. «Метель»: коллизия и смысл//Московский пушкинист-III: Ежегодный сборник. М., 1996. С. 157.
- Одиноков В. Г. Проблемы поэтики и типологии русского романа XIX в. Новосибирск, 1971. С. 42.
- Берковский Н. Я. О «Повестях Белкина»//Берковский Н. Я. О русской литературе: Сб. статей. Л., 1985. С. 52-53.
- Новикова М. А. Жизнь как житие. Пушкин и Чехов//Московский пушкинист-V: Ежегодный сборник. М., 1998. С. 26.
- Петрунина Н. Н. Проза Пушкина: (пути эволюции). Л., 1987. С. 145.
- Узин В. С. О Повестях Белкина: Из комментариев читателя. СПб., 1924. С. 52-53.
- Кибальник С. А. Художественная философия Пушкина. СПб., 1998. С. 128.
- Китанина Т. А. Еще раз о «старой канве» (Некоторые сюжеты «Повестей Белкина»)//Пушкин и мировая культура: Материалы шестой международной конференции: Крым, 27 мая -1 июня 2002 г. СПб.; Симферополь, 2003. С. 99-100.
- Тресиддер Дж. Словарь символов. М., 1999. С. 398.
- Славянские древности: Этнолингвистический словарь: В 5 т. М., 1995. Т. 1. С. 434.