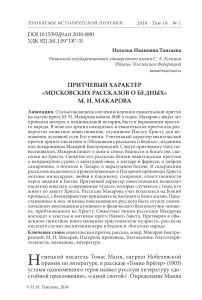Притчевый характер "Московских рассказов о бедных" М. Н. Макарова
Автор: Тангаева Наталья Ивановна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.16, 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению влияния евангельской притчи на малую прозу М. Н. Макарова начала 1840-х годов. Макаров с юных лет проявлял интерес к национальной истории, быту и верованиям простого народа. В поле его зрения находилась и евангельская притча как развернутое сюжетное повествование, служившее Иисусу Христу для изложения духовной сути Его учения. Учительный характер евангельской притчи принят писателем в «Московских рассказах о бедных», изданных под псевдонимом Макарий Быстрорецкий. Следуя притчевому типу повествования, Макаров пишет о доме и семье, бедности и богатстве, спасении во Христе. Сюжетно его рассказы близки евангельским притчам о неправедном судии, о заблудшей овце, о мытаре и фарисее, о добром самарянине, о богатом и Лазаре, о неразумном богаче. В содержании рассказов выделяются провозглашенные в Нагорной проповеди Христа мотивы милосердия, любви к ближнему, смирения, ответственности перед людьми и Богом. Притчевый характер повествования позволяет писателю показать «современные чудеса», которые случаются с теми, кто живет по завету Христа. Рассказы Макарова учат полагаться на Божий промысел, с благодарностью принимать испытания и блага жизни. Представленные в них эпизоды повседневного русского быта служат символическому воплощению духовного и физического благополучия человека, приближенного ко Христу. Сюжетные линии рассказов Макарова восходят к текстам и мотивам притч Нового Завета. Претворяя в обыденном сюжетном повествовании христианскую мудрость, рассказы писателя служат воспитанию веры в бедном и «богатом» народе.
Евангельская притча, рассказ, жанр, макарий быстрорецкий, м. н. макаров, нагорная проповедь, благодеяние, благотворительность, назидание, литература
Короткий адрес: https://sciup.org/14749044
IDR: 14749044 | УДК: 821.161.1.09“18”-31 | DOI: 10.15393/j9.art.2018.4881
Текст научной статьи Притчевый характер "Московских рассказов о бедных" М. Н. Макарова
Немецкий писатель Томас Манн, лауреат Нобелевской премии по литературе, в рассказе «Тонио Крёгер» (1903) устами одноименного героя назвал русскую литературу «достойной преклонения», «самой святой»1. Определение Манна поражает проницательностью и глубиной понимания русской литературы. В современной отечественной науке русская словесность определяется как христианская, а по более точному выражению В. Н. Захарова — на протяжении последних десяти веков она была не просто христианской, а православной [Захаров: 8]. Многими поэтическими формами русская литература восходит к евангельскому тексту.
Крещение Руси даровало государству учение Христа, явленное в Священном Писании. Из него русской словесностью были усвоены жанры жития, повести, хожения, притчи. Притча оказалась самым неоднозначным жанром, с древнейших времен получив немало определений, на что указывает Е. К. Ромодановская. В частности, ею отмечается обилие формулировок термина, среди которых: «поученье», «парабола», «басня», «непонятная вещь», «случай», «уподобление», «загадка», «поговорка», «образец», «погребальный плач» [Ромодановская: 75–76]. Особое внимание исследовательница обращает на родственность притчи басне. Это подтверждается определением из «Словаря древней и новой поэзии» (1821) Н. Ф. Остолопова: «Притча — родъ басни, въ которой выводятся люди»2. В конце XIX века термины были разграничены в энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, где указывалось, что «къ сходной съ ней поэтической формѣ — баснѣ притча относится такъ, какъ аллегорiя — къ поэтическому образу»3. Здесь же — в статье, посвященной евангельским притчам, — утверждалось, что это «особая форма проповѣди, которою <…> Христосъ пользовался для изложенiя и уясненiя истинъ своего ученiя»4. Исходя из предшествующего опыта и опираясь на собственные изыскания, С. С. Аверинцев определял притчу как дидактико-аллегорический жанр, для которого характерно бытование в некотором контексте, отличающемся возвышенной топикой, символизмом, глубиной, интеллектуальностью и экспрессивностью содержания: «…ее художественные возможности лежат не в полноте изображения, а в непосредственности выражения, не в стройности форм, а в проникновении интонаций» [Аверинцев: 362]. Экспрессивность притчевого слова отмечает И. Ю. Рыкунова, которая устанавливает «эмоциогенность» евангельских притч, поскольку они «не только вызывают эмоции у адресата, но и провоцируют движение его мысли» [Рыкунова: 14].
В связи с неоднозначностью термина в литературоведении существует несколько подходов в его типологизации. Е. М. Алексеева предлагает классификацию евангельских притч по внутреннему смыслу и отношению к проповеди о Царствии Божием (А. П. Лопухин)5, по количеству оснований и тем (К. Бломберг)6, по происхождению (С. Лёзов)7, по наличию–отсутствию сюжета (М. А. Бродский, А. М. Данилова)8, по особенностям семантического содержания (Ф. Ринекер)9, по ведущим образам (Я. Кротов), по жанровым разновидностям (Л. Г. Тумина)10 [Алексеева].
Современными специалистами евангельская притча понимается как эпический назидательно-дидактический жанр, в иносказательной форме иллюстрирующий последствия человеческого выбора, направленного к исполнению учения Христа или его нарушению. В качестве ее жанровых особенностей выделяются наличие сюжета, аллегоричность повествования, параболичность структуры, эмоциональность и устная направленность говорящего на восприятие адресата. Кроме того, вслед за В. И. Габдуллиной отметим, что идея притчи не навязывается слушающему, а мораль делается понятной благодаря «яркой образности и приближенности ее содержания к житейскому опыту слушающего» [Габдуллина: 64].
Евангельский текст прочно вошел в классические произведения писателей русской литературы. В XIX в., когда возрождались национальные основы государства и отечественной культуры, провозглашенный С. С. Уваровым в 1834 г. принцип «Православие. Самодержавие. Народность» отвечал требованиям эпохи и способствовал укреплению духа русской нации. Идеи православия и евангельские сюжеты обнаруживаются и в произведениях ведущих писателей того времени, и в творчестве малозаметных литераторов. Среди последних особая роль принадлежит Михаилу Николаевичу Макарову (1785–1847). В 1840 г., взяв псевдоним Макарий Быстрорецкий, Макаров опубликовал три тетрадки «Московских рассказов о бедных». Они были изданы в связи с организацией в Москве годом ранее Комитета для призрения просящих милостыню.
«Московские рассказы о бедных» до настоящего времени не привлекали внимания исследователей. Лишь первая тетрадка сборника рассматривалась Г. Г. Рамазановой в контексте публикаций М. Н. Макарова в журнале «Московский наблюдатель». Исследовательница обратила внимание на сходство рассказов с нравоучительными притчами [Рамазанова: 187]. Развернутый жанрологический анализ рассказов сборника в данной статье предлагается впервые.
Интерес Макарова к патриархальному быту и православным ценностям обозначился уже в раннем его творчестве. В 1809 г. в журнале «Московский вестник» в качестве приложения печатался еженедельник писателя «Русское национальное песнопение», включающий комментарии к народным песням и некоторые сведения об истории и славянской мифологии, а также заметки о связи русского фольклора с ценностями православной культуры. В 1820-е гг. Макаровым были опубликованы статьи, посвященные краеведческим и культурным описаниям московских и провинциальных достопамятностей, в которых отмечался православный уклад жизни российской деревни11. Картины народных праздников, впечатления от увиденных московских храмов и монастырей, услышанных легенд и преданий простого народа вошли в сборник Макарова «Русские предания» (1838–1840), где, по наблюдению Т. В. Федосеевой, внимание автора сосредоточено на таких человеческих ценностях, как «любовь, милосердие, преодоление гордыни, долготерпение, чистосердечное раскаяние» [Федосеева: 142].
Безусловно, помощь бедным, благотворительность как «проявленiе состраданiя къ ближнему и нравственная обязанность имущаго спѣшить на помощь неимущему»12, существовала в России давно, являясь неотъемлемой частью православного быта. Милосердию учили книги Ветхого и Нового Завета. Эта человеческая добродетель утверждалась мудрым царем Соломоном: «Дающий нищему не обеднеет; а кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий» (Притч. 28:27). К этому же, предвещая притчу о званных на пир, призывает в Новом Завете Христос: «Но, когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных» (Лк. 14:13–14). От частных пожертвований времен древней и средневековой Руси к середине XIX в. благотворительность облекается в общегосударственные формы, основываясь на христианской морали и становясь частью социальной политики [Соколов, Зимин]. В рассказах Макарова облагодетельствованные герои со словами признательности обращаются не только ко Христу, но и к императору: «Слава тебѣ Господу Богу нашему! Слава нашему Великому Царю ГОСУДАРЮ НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ!»13.
Притчевый характер рассказов определяется нами исходя из выработанной на настоящий момент типологии жанра притчи. В «Московских рассказах о бедных» Макаров использует евангельские притчи, наделенные нравоучительным смыслом. Учитывая множество классификаций, демонстрирующих разнонаправленность в обозначении главного критерия, служащего основанием для выделения типологий притчи, и специфику анализируемых текстов, ограничимся типами сюжетных евангельских притч. Среди входящих в состав сборника Макарова рассказов выделяются событийно тяготеющие к трем типам евангельских притч сюжетного содержания: о физическом спасении уповающих на Бога; о духовном возрождении; об ответственности имущих перед неимущими.
К первой группе принадлежат рассказы о бедных людях, которым остается надеяться лишь на помощь Всевышнего («Билет на обеды», «Выздоровление», «Возвращение на родину», «Помещение детей в ученье», «Определение на службу»). Герои следуют словам Христа, сказанным в Нагорной проповеди: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» (Мф. 7:7–8; Лк. 11:9–10).
Так, в рассказе « Билет на обеды » старушка Тимофеевна, близкая к голодной смерти вместе со своими внучками, после долгих молитв получает от незнакомого прохожего продовольственные карточки. Случайная милость ею понимается не иначе как помощь Самого Господа:
«…послалъ намъ небесныхъ Ангеловъ хранителей, распустили они свои святыя крылушки надъ нами сиротами; анъ вотъ вамъ и пирожекъ, дѣтушки!» (I, 6).
Героиня рассказа « Выздоровление » Аннушка потеряла мать, которую знакомые в ее отсутствие отправили в больницу. За утешением она пришла в церковь, где и встретилась с выздоровевшей матушкой. Слезная молитва перед Царскими вратами не только «вернула» мать, но и, по милости все того же неравнодушного знакомого, подарила Аннушке работу, о чем девушка говорит:
«Трудъ, да работа спасаютъ, а молитва Господня укрѣпитъ наше сердце!» (I, 22).
О спасении праведного труда говорил и Христос: «…ибо трудящийся достоин награды за труды свои» (Лк. 10:7).
Счастливо завершается паломническое странничество старика, который истратил силы на обратную дорогу домой (« Возвращение на родину »). Пребывая в бедственном положении, вынужденный просить милостыню, старик не сетует на горькую участь, являясь примером одной из заповедей блаженства: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Мф. 5:5). «Именем Христовым» добравшись из Ростова в Москву, старик обрел помощь богатого попечителя богадельни и вернулся домой.
Молитва Господу и Богородице устроила судьбу бедной крестьянки Марфы Андреевны («Помещение детей в ученье»). Здесь, в отличие от предыдущих рассказов, где герои обращались к Богу для восполнения утраты (пищи, матери, дома), Марфа Андреевна уже получает награду: устройство детей в обучающие и трудовые заведения, рабочее место на фабрике. Помощь обретается ею благодаря ходатайству церковного старосты. Однако в тексте говорится, что происходит это во исполнение слов Христа: «Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться?» (Мф. 6:31). Марфа Андреевна не показана в состоянии волнения и суетности о грядущем. Она появляется радостная и благодарная Творцу за чудесные обстоятельства. Об участии Господа в судьбах праведников, следующих Его учению, автор восклицает от своего лица:
«Какъ дивно и какъ славно непропадаютъ за Тобою наши молитвы!» (II, 18).
Рассмотренная группа рассказов сюжетно-событийной стороной восходит к евангельским притчам о человеке, просящем хлеба в полночь у своего друга, о неправедном судии. С притчей их сближает условность бытовой ситуации, схематичность персонажей: они статичны, их характеры лишены развития. Это просто бедные люди, оказавшиеся в безвыходной, по земным меркам, ситуации. Получаемая ими помощь исходит от других людей, но трактуется как Божья милость: «Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» (Лк. 18:7).
Несколько отличается от других в выделенной нами группе рассказ « Определение на службу ». Офицерская вдова Наталья Карповна Горемыкина, получив поддержку от друга семьи, определившего ее сына на военную службу, благодарит спасителя, но к Господу не обращается. Милость ей дарована по молитвам священника Благодухова, уверяющего, что «уповающему на Господа, Самъ Онъ Спаситель щитомъ и крѣпостью…» (III, 17). Верующим человеком оказывается милостивец — московский купец Добродеев. Можно выделить в данном рассказе мотивы притчи о работниках в винограднике. Согласно одному из толкований, предложенному Феофилактом Болгарским, притча образно показывает, как Христос призывает людей следовать за Ним, жить по Его учению14. Поскольку Наталья Карповна все же получает необходимую помощь, а рядом находятся заботливые православные люди, остается надежда, что она будет призвана Христом, ведь Он уже присутствует в ее жизни.
Так, рассказы первой группы уверяют читателей в том, что физические, материальные беды легко разрешимы для тех людей, которые живут со Христом и надеются на Него:
«Великое дѣло человѣческое упованiе на Господа Бога!» (I, 7).
Ко второй группе сюжетов, идейно восходящих к притчам о возможности духовного воскрешения для падших людей, мы относим рассказы «Новая хозяюшка», «Определение к месту», «Увольнение на поручительство», «Помещение в богадельню». Определяющими для них являются притчи о заблудшей овце, о потерянной драхме, о мытаре и фарисее, о двух должниках.
Спившаяся, убогая героиня рассказа « Новая хозяюшка » «возрождается» к жизни благодаря подруге Ивановне, в прошлом ведшей такой же образ жизни. Упоминание имени Христа приводит Антоновну в Юсуповский дом, где женщина, молитвой и трудом, крепко уверовала в Господа. Повествователь говорит:
«Ахъ! вѣдь очень весело падшему христiанскому сердцу, когда его изъ ничтожества, отъ когтей дiявольскихъ крестятъ опять человѣкомъ, да сажаютъ на прочное новое хозяйство!» (I, 17).
В этих словах очевидна аллюзия на завет Христа: «Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся» (Лк. 15:10).
К достойной жизни возвращается и дошедший до крайности, просящий милостыню на улице старик-офицер из рассказа « Определение к месту ». Ему помогает друг, бывший поручик Хватской, который пил и жил подаянием до тех пор, пока не попал в богадельню. Старику-офицеру сложно согласиться на помощь «низшего по званию»: «Такое ли мое дѣло, какъ ваше солдатское!..» (II, 11). Хватской же его урезонивает: «…милостыня всѣхъ ровняетъ, потому то-де и нищая братiя!..» (II, 12). Не офицерская гордость, а солдатское смирение позволяют старику обратиться за поддержкой, благодаря которой начинается его благополучная жизнь. Все случается по слову Христа: «…ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лк. 18:14).
По-новому устроился быт пекаря Петра Петровича в рассказе «Увольнение на поручительство». О своем несчастном, пьяном прошлом и счастливом настоящем он рассказывает случайно встреченной на улице старушке, которой помогает дотащить до дома нетрезвого сына — кузнеца Фому. История пекаря и кузнеца близка по смыслу притче о добром самаря-нине: «…некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем» (Лк. 10:30–37). Как и прошедшие мимо чужого горя священник и левит, полицейский сторож, оставаясь в стороне и посмеиваясь над чужой бедой, наблюдал за несчастной матерью, пытавшейся оттащить сына с дороги. Петр Петрович, подобно благочестивому самаряни-ну, случайно оказался неподалеку и тут же пришел ей на помощь, поступив так, как Иисус учил в Нагорной проповеди: «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Мф. 7:12). Повествуя о попавших в беду несчастных, автор понимает, как непросто бывает людям опомниться и встать на благочестивый путь.
Завершение истории кузнеца Фомы и его матери дано М. Н. Макаровым в рассказе « Помещение в богадельню », из которого становится известно, что он так и не освободился от своего порока: умер через некоторое время в беспамятстве, а старушка-мать без кормильца осталась дожидаться голодной смерти. К ней на помощь снова приходит пекарь Петр Петрович и спасает, определив в приют, где «доброе, благородное начальство <…> какъ дѣтскую колыбельку убрало ее добрымъ , надежнымъ, да сладкимъ покоемъ!» (III, 15).
Рассказы второй группы, свидетельствующие о возможности духовного «очищения» обращенных ко Христу, отсылают, кроме обозначенных выше притч, к евангельскому сюжету о двух должниках и словам Господа: «…не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию» (Лк. 5:31–32). Те, кто нашел в себе силы покаяться, не возвращаются к прежней жизни, но обретают лучшую жизнь в труде, молитве, помощи ближним и смирении, становясь достойными восприемниками учения Христа.
Наконец, к третьей группе рассказов, которые основаны на сюжетах об ответственности имущих перед неимущими, можно отнести те, которые иллюстрируют отношение покровителей к попавшим в безвыходное положение беднякам. Несмотря на разное социальное положение первых (среди них называются генерал, купец, барин, приказчик, пекарь), они одинаково просто и обыденно реагируют на творимое ими «чудо». «Что ты, что ты, старикъ? Богу де молятся, а не лю-дямъ?» (II, 23) — отвечает благодарящему своего спасителя старику генерал. «Богъ съ вами, да что это вы? Что это съ вами?» (III, 20) — удивляется купец благодарности вырученной им обнищавшей помещицы. Как к родной, подходит случайный барин к незнакомой женщине и тут же дарит продовольственные карточки:
«…остановился онъ, посмотрѣлъ на меня, да и вымолвилъ слово ласковое» (I, 10).
Подчеркиваемое автором полное отсутствие высокомерия и гордости в поведении творящих добро героев отсылает к притче о пришедшем с поля работнике, поведав которую, Христос учит: «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать» (Лк. 17:10). Благодетели показаны Макаровым людьми благочестивыми и праведными.
Помимо обнаруженного нами сюжетного и идейного сходства текстов писателя с евангельскими притчами, выявляется также структурная близость повествований. В рассказах Макария Быстрорецкого нами отмечены такие жанровые особенности, как параболичность, эмоциональность и устная направленность говорящего на восприятие адресата. Кольцевая композиция (парабола) организует рассказы «Билет на обеды» и «Возвращение на родину». В первом читаем:
«Господи, Отецъ милостивый! Да откуда это добрые люди берутся» — «Слава тебѣ Господу Богу нашему! <…> Слава и всѣмъ добрымъ людямъ» (I, 5, 11).
Во втором начало и конец также обращены к Богу:
«Никто, какъ Богъ <спас>! Всему, всему сподобилъ!» — «Слава Тебѣ Боже нашъ! Слава Тебѣ!» (II, 21, 24).
Отметим также свойственную языку евангельских притч эмоциогенность рассказов Макарова. В приведенных примерах очевидна эмоциональность выражений героев, которые не сдерживают радость, делясь ей со всем миром. Речь автора насыщена эмоциональной лексикой, преимущественно имеющей положительную коннотацию: «добрый», «милосердный», «милостивый», «работящий», «родной», «славный», «честный», «душевный», «надежный», «благородный», «добродетельный». Слова отрицательной семантики немногочисленны и применяются либо к равнодушным людям, не желающим оказывать помощь («непомолимый», «хитрец»), либо к поддавшимся лени и пьянству — «дури бесовской», «дури поганой». Единично встречающиеся слова с отрицательной коннотацией объясняются тем, что повествователь стремился, прежде всего, не обличать поведение людей, отступающих от христианской морали, не навязывать идею читателям, а превозносить красоту благодетельной православной души. Он в назидательной форме иллюстрировал «бытовые» чудеса. Сказовая манера повествования, устная направленность говорящего на восприятие слушающего должны были убедить читателей в реальности и простоте «диковинных» происшествий для тех, кто живет по учению Христа.
Евангельская притча оказала несомненное влияние на структурный и содержательный уровень «Московских рассказов о бедных» М. Н. Макарова. Представленные в них бытовые ситуации служат утверждению исходящих из Нагорной проповеди Христа и всего Его учения ценностей милосердия, смирения, любви к ближнему, ответственности перед Богом и перед людьми.
В. П. Степанов пишет о значении рассказов, связанном с поддержкой учрежденного в 1838 году Московского комитета для призрения просящих милостыню [Степанов: 470]. Вместе с тем писатель ставил перед собой более важную цель общенационального характера. Следуя поэтике евангельской притчи, показывая «современные чудеса», случающиеся с людьми, которые полагаются на Божий промысел и с благо- дарностью принимают его, Макаров, приводя примеры благочестия, способствовал воспитанию христианских добродетелей в русском народе.
Дата поступления в редакцию: 03.02.2018
Received: February 03, 2018
Date of publication: March 31, 2018
Список литературы Притчевый характер "Московских рассказов о бедных" М. Н. Макарова
- Аверинцев С. С. Притча//Аверинцев С. С. Собр. соч. София-Логос. Словарь/под ред. Н. П. Аверинцевой, К. Б. Сигова. -Киев: ДУХ I ЛIТЕРА, 2006. -С. 361-363.
- Алексеева Е. М. Классификации Евангельских притч//Актуальные проблемы германистики, романистики и русистики. -2015. -Ч. III. -С. 102-106.
- Бломберг К. Интерпретация притчей. -М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2005. -371 с.
- Бродский М. А. Чтение и обсуждение библейских сюжетов и образов со школьниками среднего и старшего возраста. -М.: , 1995. -41 с.
- Габдуллина В. И. Авторский дискурс Ф. М. Достоевского: проблемы изучения. -Барнаул: Алтайская государственная педагогическая академия, 2010. -138 с.
- Данилова А. М. Речевые акты в текстах евангельских притч: автореф. дис.. канд. филол. наук. -Алматы, 2008. -31 с.
- Захаров В. Н. Русская литература и христианство//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1994. -Вып. 3. -С. 5-11 . -URL: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2370 (24.01.2018).
- Лёзов С. Попытка понимания. -СПб.: Университетская книга, 1998. -575 с.
- Лопухин А. П. Притчи евангельские//Христианство: энцикл. словарь: в 3 т./гл. ред. С. С. Аверинцев. -М.: Большая Рос. энциклопедия, 1995. -Т. 2. -С. 392-393.
- Рамазанова Г. Г. Публикации М. Н. Макарова о Москве (по страницам журнала «Московский наблюдатель»)//Известия Самарского научного центра Российской академии наук. -2011. -№ 2. -С. 182-187.
- Ринекер Ф. Библейская энциклопедия Брокгауза/под общ. ред. В. А. Цорна. -М.: Рос. библейское общество, 1999. -1120 с.
- Ромодановская Е. К. Специфика жанра притчи в древнерусской литературе//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1998. -Вып. 5. -С. 73-111 . -URL: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2477 (24.01.2018).
- Рыкунова И. Ю. Эмотивно-прагматический потенциал слова в Евангельских притчах//Известия Волгоградского государственного педагогического университета. -2012. -№ 2. -С. 11-14.
- Соколов А. Р., Зимин И. В. Благотворительность семьи Романовых. XIX -начало XX в. Повседневная жизнь Российского императорского двора. -М.: Центрполиграф; СПб.: Русская тройка-СПб, 2015. -603 с. . -URL: http://starina44.ru/d/327942/d/2015_god_blagotvoritelnost_doma_romanovykh.pdf (24.01.2018).
- Степанов В. П. Макаров Михаил Николаевич//Русские писатели 1800-1917. Биографический словарь: в 5 т. -М.: Большая российская энциклопедия, 1994. -Т. 3. -С. 468-470.
- Тумина Л. Г. Притча как школа красноречия. -М.: URSS: Изд-во ЛКИ, 2008. -366 с.
- Федосеева Т. В. Русские предания в исторических повестях М. Н. Макарова//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2015. -Вып. 13: Актуальные аспекты. -С. 122-146 . -URL: http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1449752820.pdf (24.01.2018).