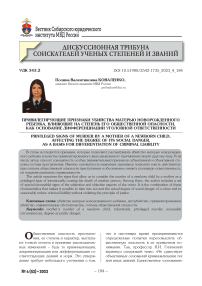Привилегирующие признаки убийства матерью новорожденного ребенка, влияющие на степень его общественной опасности, как основание дифференциации уголовной ответственности
Автор: Коваленко П.В.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Дискуссионная трибуна соискателей ученых степеней и званий
Статья в выпуске: 4 (53), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются признаки, которые позволяют рассматривать убийство матерью новорожденного ребенка в качестве привилегированного вида умышленного причинения смерти другому лицу. К их числу автор относит совокупность особых (извинительных) признаков субъективной и объективной стороны состава преступления. Именно совокупность названных признаков позволяет учесть действительную степень общественной опасности преступления и обоснованно снизить уголовную ответственность, не нарушив принципа справедливости.
Убийство матерью новорожденного ребенка, детоубийство, привилегированное убийство, извинительные обстоятельства, степень общественной опасности
Короткий адрес: https://sciup.org/140303420
IDR: 140303420 | УДК: 343.2 | DOI: 10.51980/2542-1735_2023_4_184
Текст научной статьи Привилегирующие признаки убийства матерью новорожденного ребенка, влияющие на степень его общественной опасности, как основание дифференциации уголовной ответственности
Общественная опасность преступления, ее степень и характер, выступают точкой отсчета в принятии законодательных изменений – будь то криминализация, декриминализация или дифференциация соответствующих деяний и норм. Это утверждение требует небольшого уточнения о том, что в настоящее время предпринимаются определенные попытки переосмыслить общественную опасность в ее привычном понимании. Так, профессор Я.И. Гилинский выдвинул следующий тезис: «He существует объективных оснований криминализации тех или иных деяний. Единственное «основание»
- воля, желание главы государства, правительства, власти » 1 . Действительно, современная реальность показывает, что классический подход к общественной опасности деяния как отправной точки его криминализации в ряде случаев утрачивает актуальность. Вместе с тем нельзя не отметить, что это касается в первую очередь криминализации деяний с негативной политической окраской, в то время как дифференциация ответственности в целом все же должна опираться на характеристику привычной для уголовно-правовой науки степени общественной опасности соответствующего преступления, ответственность за которое уж е предусмотрена в УК РФ. Хотя не исключается и полная трансформация характеристики общественной опасности посягательства.
На протяжении истории развития России отношение к детоубийству2 не было одинаковым. Так, в древнейшие времена, и это характерно для всего человечества, убийство ребенка вообще не порицалось ни обществом, ни государством. Детоубийства были широко распространены у народов, стоящих на низших ступенях развития, и не вызывали у них ни нравственного, ни юридического осуждения. Так, по утверждению М.Н. Гернета, опубликовавшего одно из фундаментальных социологических и юридических исследований детоубийства, причинение смерти детям не рассматривалось в качестве преступления, не только в Африке, Парагвае, Фиджи, Полинезийских островах, Китае, Риме, но и в России. « Говоря о жестоких обычаях славян языческих, скажем еще, - продолжает М.Н. Гернет, - что всякая мать имщла у нихъ право умертвить новорожденную дочь, когда семейство было уже слишкомъ многочисленно, но обязывалась хранить жизнь сына, рожденнаго служить отечеству» [4, с. 47].
Убийство детей в раннем обществе было совершенно обычным явлением, родителям принадлежала неограниченная власть над детьми. «Само такое явление было обусловлено нищетой, голодом, трудностями, связан- ными с воспитанием детей, низкими экономическими возможностями» [2, с. 50]. Кроме того, нормой во многих цивилизациях было жертвоприношение детей [6, с. 61].
По нашему мнению, такое отношение к детоубийству связано также с тем, что в центре древнего права и, соответственно, бытовавшего тогда представления о криминализации было не преступление и даже не преступник, а причиненный вред . Рациональное сознание древнего человека не могло воспринимать в качестве преступного то, что не причиняло никакого вреда [10, с. 42].
Вероятно, феномен безграничной власти родителей над детьми, по существу, схожий с полномочиями собственника в отношении вещи, не позволял рассматривать в качестве вреда причинение смерти своему же ребенку. Позволим себе провести аналогию – в Древнем мире убийство своего ребенка, как и уничтожение собственного имущества, не признавалось преступным, так как не причиняло вреда родителям ребенка. С ростом влияния религии на всю государственную жизнь, появлением церковных судов менялось отношение общества к детоубийству, а понятие греха (в том числе убийства новорожденного) постепенно трансформировалось в преступление.
Скрупулезное исследование эволюции российского уголовного законодательства, устанавливающего ответственность за убийство матерью своего ребенка, провел В.Б. Хатуев, который установил, что умышленное посягательство на жизнь новорожденного ребенка в Древней Руси первоначально не признавалось преступлением. В последующем воззрение на детоубийство под сильным влиянием христианства изменилось в сторону усиления охраны жизни детей, оно стало даже расцениваться как квалифицированное убийство, однако уже в Соборном уложении 1649 г. оно относилось к привилегированным. Детоубийство вообще по Уложению каралось значительно мягче, чем обычное убийство, за которое предусматривалась смертная казнь. Исключение составляло убийство незаконных детей, которое вследствие безнравственного поведения матери, прижившей ребенка в блуде, наказывалось гораздо строже. В отличие от Соборного уложения Артикул воинский 1715 г. не только предусмотрел детоубийство как квалифицированное, но предусматривал за него квалифицированную смертную казнь. В этом источнике права не выделялось отдельно убийство законного и незаконного ребенка. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. впервые в истории России отнесло убийство незаконнорожденного ребенка к привилегированным убийствам. С установлением советской власти отношение законодателя к обсуждаемому убийству снова меняется. Уголовное законодательство придавало одинаковую значимость жизни ребенка как законного, так и незаконнорожденного, но оно отказывалось от выделения такого убийства в качестве самостоятельного привилегированного состава преступления: его не было во всех трех советских УК РСФСР – 1922, 1926 и 1960 гг. Суды в этот период обычно назначали за данное преступление довольно мягкие наказания, по сути, уже тогда создав предпосылки превращения его в привилегированный состав убийства. И наконец, действующий УК РФ выделяет убийство матерью новорожденного ребенка в привилегированный состав преступления [21, с. 83-96].
Очевидно, что наказуемость исследуемого нами преступления во все времена зависела от степени его общественной опасности, содержание которой определялось политико-правовой ситуацией в стране. Интересно обратить внимание, что лишение жизни другого человека всегда рассматривалось как malum in se, и лишь некоторые характеристики потерпевшего позволяли иначе оценивать опасность такого деяния. Так, в определенное время не признавалось преступным лишение жизни своего раба, аналогичный подход до поры применялся и в отношении детей. Можно предположить, что на степень общественной опасности детоубийства влияла не объективная сторона преступления, а такая характеристика его объекта, как лич- ность потерпевшего. Но и это предположение небесспорно.
Последующие трансформации общественного уклада, в частности воздействие на него христианского вероучения, не исключило влияние объекта убийства на степень его общественной опасности, но диаметрально изменило – убийство ребенка наказывалось не ниже, а затем, в советское время, и строже, чем простое убийство. Так, убийство матерью новорожденного ребенка по УК РСФСР 1926 г. квалифицировалось по предусматривающей ответственность за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах ст. 136, в которую без изменений вошли п.п. «д» и «е» аналогичной ст. 142 предыдущего УК РСФСР 1922 г. В УК РСФСР 1960 г. данный вид убийства рассматривался как разновидность простого убийства. Ответственность за умышленное убийство по нему предусматривалась в ст. 102 (за квалифицированное) и 103 (за простое). Однако ст. 102 не содержала в числе отягчающих признаков аналогов пп. «д», «е» ст. 142 УК РСФСР 1922 г. и пп. «д», «е» ст. 136 УК РСФСР 1926 г. Поэтому это убийство подлежало квалификации по ст. 103. В том же случае, если наличествовали обозначенные в ст. 102 УК иные отягчающие признаки (повторность, жестокость и т.п.), тогда содеянное квалифицировалось по этой статье [21, с. 94].
Проведенные до настоящего момента уголовно-правовые исследования детоубийства показывают, что оценка этого преступления среди специалистов является полярной. Нет единства мнений в том, какова на самом деле степень общественной опасности исследуемых нами преступлений и, соответственно, могут ли они быть привилегированными в современной России.
Первая группа исследователей соглашается с тем, что убийство матерью новорожденного ребенка обоснованно признано привилегированным составом убийства. Так, М.А. Трясоумов указывает, что «выделение самостоятельной уголовно-правовой нормы в УК 1996 г., устанавливающей ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка при смягчающих обстоятельствах
(ст. 106), теоретически обосновано и подтверждается практикой назначения наказаний за данное преступление» [20, с. 12].
Вторая группа авторов предлагает отказаться от ст. 106 УК РФ как привилегированного состава убийства и привлекать детоубийц к ответственности по общей норме ст. 105 УК РФ с квалифицирующими признаками.
Е.В. Серегина считает, что уголовно-правовая охрана жизни новорожденного ребенка в российском законодательстве не соответствует исторически устоявшимся традициям, принятым международным нормам и моральным принципам, а так как наше государство стремится приблизиться к общемировым стандартам, необходимо учесть исторический и зарубежный опыт в регулировании охраны жизни новорожденного ребенка, предусмотрев более строгую ответственность за посягательство на его жизнь. Как следствие, предлагает исключить ст. 106 УК РФ [19, с. 13].
М.М. Минаева [13] и А.Г. Бабичев [3] также выступают противником состава преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, как убийства со смягчающими обстоятельствами. Н.Е. Аленкин утверждает, что отнесение детоубийства к привилегированным составам противоречит принципу равенства граждан перед законом (ст. 4 УК РФ), принципу справедливости [1, с. 12].
Третья группа авторов предлагает компромиссный вариант: смягчать ответственность можно исключительно при наличии психотравмирующей ситуации. Так, А.Н. Попов предлагает «ограничить ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка случаями, когда данное преступление было вызвано состоянием психического расстройства матери либо было совершено в условиях психотравмирующей ситуации» [17, с. 15]. Похожее предложение отражено в работе А.Л. Карасовой [9, с. 11]. А.В. Лунева также считает необходимым обусловить смягчение наказания за совершение детоубийства особым психофизиологическим состоянием роженицы (родильницы), вызванным беременностью и родами [12, с. 11]. Л.А. Мурзина предлагает изменить редакцию ст. 106 УК РФ, оставив ее привилегированным составом убийства: «Убийство роженицей (родильницей) своего ребенка во время либо после родов в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости, совершенное в связи с особым психофизиологическим состоянием, вызванным родами, наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до четырех лет»» [14, с. 14]. К похожим выводам по результатам исследования пришла А.П. Штанькова: «Сложные ситуативные факторы, провоцирующие появление и психофизиологического состояния, и состояния психотравмы, влияющие на преступное поведение женщины (матери), выступают объективным основанием отнесения убийства матерью новорожденного ребенка к привилегированным составам преступлений» [22, с. 11].
Чем же обусловлено то, что в действующем УК РФ с момента его принятия детоубийство относится к привилегированным преступлениям? Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к теоретическим разработкам критериев, позволяющих рассматривать преступление как привилегированное, и, соответственно, обуславливающих пониженную степень их общественной опасности.
Критериям привилегизации преступлений против жизни и здоровья посвящено не одно исследование, вместе с тем есть основания полагать, что их содержание нельзя признать безупречным. Например, в качестве признака, позволяющего смягчать санкцию, называется обстановка причинения вреда при превышении пределов необходимой обороны или мер для задержания лица, совершившего преступление (ст. 108 УК РФ) [18, с. 108], или обстоятельства, связанные с процессом защиты или задержания [16, с. 252].
Высоко оценивая выводы исследователей привилегированных составов преступлений против жизни и здоровья, обратим внимание, что сквозь призму состава преступления привилегированный состав включает в себя особые субъективные признаки преступления, характеризующие либо субъекта противоправного деяния, либо субъективную сторону.
Очевиднее всего это проявляется в убийстве в состоянии аффекта, который выступает характеристикой субъективной стороны состава преступления, означающей ущербность воли виновного. В литературе справедливо отмечается, что помимо состояния аффекта привилегирующим признаком в ст. 107 УК РФ является поведение потерпевшего, а именно его предшествующие аффекту определенные отрицательные действия. С точки зрения психологии аффект не всегда и не обязательно основан на противоправном и аморальном поведении потерпевшего, например, аффект может возникнуть вследствие нахождения в центре катастрофы, аварии, получении негативной информации [15, с. 118-126].
Вместе с тем именно противоправные или аморальные действия (бездействия) потерпевшего в связке с внезапно возникшим сильным душевным волнением в ответ на это являются критериями установления более мягкого наказания. Другими словами, убийство в состоянии аффекта, вызванного иными обстоятельствами, чем поведение потерпевшего, не извиняет виновного, который должен будет нести ответственность по общей норме Особенной части УК РФ – за простое убийство. То же самое можно сказать про преступление, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 108 УК РФ – убийство при превышении пределов необходимой обороны и ч. 2 ст. 108 УК РФ – убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица.
Таким образом, в обоих примерах мы можем видеть не просто особые признаки субъективной стороны состава преступления, а совокупность субъективных и объективных признаков, которые образуют извинительное преступление, то есть с пониженной по сравнению с основным составом ответственностью.
В первом из названных составов преступлений субъективная сторона характеризуется специальной целью – защита личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства [8, с. 11; 11, с. 10]. Объективные признаки проявляются в том, что потерпевший совершает преступное посягательство в отношении обороняющегося, других лиц или интересов государства или общества. При этом обязательно соблюдение условий правомерности причинения вреда в состоянии необходимой обороны – наличность, реальность, своевременность посягательства – которые также относятся к объективным признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 108 УК РФ.
То же самое можно сказать в отношении причинения вреда при превышении мер, необходимых для задержания лица; к объективным признакам этого преступного посягательства относится, во-первых, то, что потерпевший совершает именно преступление, во-вторых, что иными средствами задержать преступника не представляется возможным. К субъективным признакам относится цель причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, – его доставление в органы власти и пресечение возможности совершений им новых преступлений. Отсутствие названных обстоятельств не позволяет применять к лицу привилегированные нормы, предусмотренные ст. 108 и ст. 114 УК РФ.
В науке уголовного права уже предлагались условия, позволяющие понижать наказание за преступление, предусмотренное ст. 106 УК РФ. К этим условиям относятся следующие: 1) признак-привилегия всегда связан с тем, на кого или на что посягает преступление (ст. 106 УК – особая психофизиологическая реакция матери, вызванная процессом родоразрешения, в результате которого на свет появляется новорожденный ); 2) признак-привилегия должен быть связан с психическими и (или) эмоциональными (эмоции, стресс, аффекты) процессами субъекта преступления (ст. 106 УК – психотравмирующая ситуация, связанная с беременностью и родами); 3) признак-привилегия должен отражать вынужденность совершения лицом преступления (ст. 106 УК – психотравмирующая ситуация, связанная с беременностью и родами) [22, с. 12].
Считаем, что указанные условия нуждаются в некотором уточнении. Первое из них, на наш взгляд, необоснованно «обесценивает» жизнь новорожденного. Если установить повышенную ответственность за причинение смерти человеку, обладающему особым статусом, допустимо, причем с опорой на то, что в результате его смерти страдает не только жизнь, но и другой объект общественных отношений (например, правосудие или порядок управления), то обосновать пониженную ответственность за убийство человека со специальными признаками (пол, национальность, вероисповедание, или, как в нашем случае, возраст) – значит, нарушить конституционный принцип равенства всех перед законом. Второе условие следует дополнить тем, что и цель совершения деяния, как факультативный признак субъективной стороны состава преступления, наряду с эмоциями, стрессом и аффектом, может свидетельствовать о привилегии. Третье условие о вынужденности совершения преступления заставляет задуматься как минимумом о том, что оно схоже со вторым (в обоих случаях говорится о психотравмирующей ситуации, вызванной родами), как максимум – о том, что вынужденность совершения преступления, как правило, исключает преступность деяния. Да и вообще сомнительно считать, что мать вынужденно убивает ребенка.
Таким образом, критерием привилегиза-ции умышленных посягательств против жизни и здоровья (ст. 106, 107, 108, 114 УК РФ) является совокупность особых субъективных и объективных признаков состава преступления. Названные признаки характеризуют пониженную степень общественной опасности преступного посягательства, что позволяет дифференцировать уголовную ответственность и, как следствие, обеспечивать справедливость при назначении наказания и иных мер уголовно-правового характера к лицу, совершившему преступление (ст. 6 УК РФ).
В действующей редакции ст. 106 УК РФ предусмотрены три альтернативных состава преступления – убийство матерью новорожденного во время или сразу же после родов, убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации и убийство матерью новорожденного ребенка в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости. Первый состав характеризуется особым признаком объективной стороны, два других – субъективной. По отдельности названные признаки не могут свидетельствовать о пониженной степени общественной опасности детоубийства.
Справедливо утверждение М.А. Горбатовой и А.А. Сергеевой, которые отмечают: «Не углубляясь в особенности психики кормящей женщины и их влияние на возможность совершения детоубийства, повторим, что указание на особое состояние матери во время убийства новорожденного ребенка является чрезвычайно важным криминообразующим признаком, которого не хватает российскому уголовному законодательству. Полагаем, что данное особое психическое состояние матери, вызванное родами, является единственным обстоятельством, снижающим степень общественной опасности данного насильственного преступления» [5, с. 43]. «Перед законодателем, – пишет О.С. Иванова, – стоит задача осуществить дифференциацию убийства матерью новорожденного ребенка таким образом, чтобы привилегированный состав применялся только к тем женщинам, которые находились в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости, вызванного беременностью и родами» [7].
Еще в 2014 г. в Госдуму вносился законопроект, которым предлагалось ст. 106 УК РФ признать утратившей силу, при этом ввести в ч. 2 ст. 105 УК РФ пункт «в1», предусматривающий ответственность за убийство новорожденного ребенка его матерью1. В заклю- чении Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству по данному проекту закона указано, что «действующая редакция статьи 106 УК РФ учитывает психофизическое состояние женщины во время родов и сразу же после них, поскольку роженица не всегда в полной мере способна адекватно оценить происходящие с ней события, а также последствия принимаемых ею решений. Кроме того, проектируемый квалифицирующий признак «в1» статьи 105 УК РФ «убийство новорожденного ребенка его матерью» представляется исключительно формальным и объективно не учитывает обстоятельства совершения такого преступления». Сказанное подтверждает нашу гипотезу о том, что критерием привилегизации убийства не могут выступать признаки только одного элемента состава преступления.
В литературе также можно встретить предложения об изменении диспозиции ст. 106 УК РФ, например, в такой редакции: «Убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости, вызванного беременностью и родами» [7] или «Убийство матерью новорожденного ребенка, совершенное в особом психическом состоянии, вызванном процессом родов» [5]. В целом положитель- но оценивая эти предложения, мы не можем не отметить, что исследование взаимосвязи субъективных и объективных признаков детоубийства, свидетельствующих о пониженной степени общественной опасности умышленного преступления, позволяющих дифференцировать ответственность за него, требует дополнительного осмысления. Более того, такая связь признаков состава преступления в перспективе может быть положена в основание дифференциации других преступлений.
Подытоживая изложенное выше, отметим, что пониженная степень общественной опасности однородных деяний, например убийств, должна быть связана с совокупностью особых признаков субъективной и объективной стороны состава преступления. Оценка убийства матерью новорожденного ребенка во время или сразу после родов как привилегированного преступления без дополнительных особых (извинительных) признаков субъективной стороны состава преступления, равно как и в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости, без особых признаков объективной стороны (во время или сразу после родов) необоснованна, поскольку не отражает действительную (пониженную) степень общественной опасности данного преступления.
Список литературы Привилегирующие признаки убийства матерью новорожденного ребенка, влияющие на степень его общественной опасности, как основание дифференциации уголовной ответственности
- Аленкин, Н.Е. Система привилегированных составов убийства в уголовном праве России: проблемы совершенствования: дис. ... канд. юрид. наук / Н.Е. Аленкин. – М., 2017. – 305 с.
- Антонян, Ю.М. Общий взгляд на проблему убийств детей / Ю.М. Антонян, Ю.С. Дрожжа // Научный портал МВД России. – 2014. – N 1. – С. 46-53.
- Бабичев, А.Г. Преступления против жизни: теоретико-прикладные проблемы и доктринальная модель уголовного закона: дис. ... доктора юрид. наук / А.Г. Бабичев. – Казань, 2019. – 452 с.
- Гернет, М.Н. Детоубийство. Социологическое и сравнительно-юридическое исследование / М.Н. Гернет. – М.: Типография Императорского Московского университета, 1911. – 330 с.
- Горбатова, М.А. Привилегирующее обстоятельство в составе убийства матерью новорожденного ребенка / М.А. Горбатова, А.А. Сергеева // Журнал правовых и экономических исследований. – 2019. – N 3. – С. 39-44.
- Джарман, О.А. Сравнительная характеристика статуса ребенка в Древнем мире / О.А. Джарман, Г.Л. Микиртичан // Медицина и организация здравоохранения. – 2018. – Т. 3. – N 3. – С. 59-74.
- Иванова, О.С. Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ): проблемы описания состава преступления и дифференциации ответственности / О.С. Иванова // Теория и практика общественного развития. – 2016. – N 7. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ubiystvo-materyu-novorozhdennogo-rebenka-st-106-uk-rf-problemy-opisaniya-sostava-prestupleniya-idifferentsiatsii-otvetstvennosti (дата обращения: 22.05.2023).
- Истомин, А.Ф. Ответственность за убийство при превышении пределов необходимой обороны: уголовно-правовой и криминологический аспекты): автореф. дис. ... канд. юрид. Наук / А.Ф. Истомин. – М., 1995. – 26 c.
- Карасова, А.Л. Убийство матерью новорожденного ребенка (теоретико-прикладные аспекты ответственности по ст. 106 УК РФ): дис. ... канд. юрид. наук / А.Л. Карасова. – Ростов-на-Дону, 2003. – 225 c.
- Козаченко, И.Я. Новая криминализация: философско-юридический путеводитель по миру преступного и непреступного / И.Я. Козаченко, Д.Н. Сергеев. – Екатеринбург: SAPIENTA, 2020. – 256 с.
- Курбанеев, Э.В. Ответственность за убийство при превышении пределов необходимой обороны: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Э.В. Курбанеев. – М., 2002. – 24 c.
- Лунева, А.В. Уголовная ответственность за детоубийство: проблемы теории и правоприменения: автореф. дис. … канд. юрид. наук / А.В. Лунева. – М., 2013. – 25 с.
- Минаева, М.М. Уголовно-правовая охрана жизни ребенка до и после рождения по законодательству России: дис. ... канд. юрид. наук / М.М. Минаева. – М., 2012. – 305 с.
- Мурзина, Л.И. Убийство матерью новорожденного ребенка: уголовно-правовые и криминологические проблемы: дис. ... канд. юрид. наук / Л.И. Мурзина. – Саратов, 2009. – 207 с.
- Мухачева, И.М. Уголовно-правовая и психологическая характеристика аффекта / И.М. Мухачева // Актуальные проблемы российского права. – 2016. – N 7. – С. 118-126.
- Полный курс уголовного права: в 5 т. Т. II. Преступления против личности / под ред. А.И. Коробеева. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. – 682 с.
- Попов, А.Н. Умышленные преступления против жизни (проблемы законодательной регламентации и квалификации): дис. ... докт. юрид. наук / А.Н. Попов. – СПб, 2003. – 509 c.
- Российское уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под ред. В.П. Коняхина, М.Л. Прохоровой. – М.: Контракт, 2015. – 923 с.
- Серегина, Е.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты охраны жизни новорожденного ребенка: дис. ... канд. юрид. наук / Е.В. Серегина. – Ростов-на-Дону, 2004. – 219 c.
- Трясоумов, М.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с убийствами матерью новорожденного ребенка (ст.106 УК РФ): дис. ... канд. юрид. наук / М.А. Трясоумов. – Екатеринбург, 2000. – 218 c.
- Хатуев, В.Б. Эволюция уголовного законодательства России об ответственности за убийство матерью новорожденного ребенка / В.Б. Хатуев // Lex russica (Русский закон). – 2019. – N 1. – С. 83-96.
- Штанькова, А.П. Привилегированные составы преступлений: понятие, основания криминализации, виды, особенности квалификации и наказания: автореф. дис. … канд. юрид. наук / А.П. Штанькова. – Саратов, 2022. – 24 с.