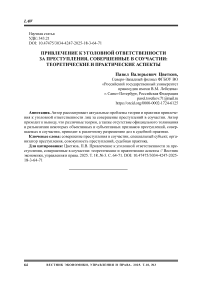Привлечение к уголовной ответственности за преступления, совершенные в соучастии: теоретические и практические аспекты
Автор: Цветков П.В.
Журнал: Вестник экономики, управления и права @vestnik-urep
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 3 т.18, 2025 года.
Бесплатный доступ
Автор рассматривает актуальные проблемы теории и практики привлечения к уголовной ответственности лиц за совершение преступлений в соучастии. Автор приходит к выводу, что различные теории, а также отсутствие официального толкования и разъяснения некоторых объективных и субъективных признаков преступлений, совершаемых в соучастии, приводят к различному разрешению дел в судебной практике.
Совершение преступления в соучастии, специальный субъект, организатор преступления, совокупность преступлений, судебная практика
Короткий адрес: https://sciup.org/142245930
IDR: 142245930 | УДК: 343.21 | DOI: 10.47475/3034-4247-2025-18-3-64-71
Текст научной статьи Привлечение к уголовной ответственности за преступления, совершенные в соучастии: теоретические и практические аспекты
North-West branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Russian State University of Justice named after V.M. Lebedev”, Petersburg, Russian Federation
Институт соучастия не ограничивается только правовыми нормами, которые содержатся в Уголовном кодексе РФ. Любой уголовно-правовой институт необходимо рассматривать через призму триединства, которая заключается во взаимосвязи принципов, лежащих в основе регулирования данного института, нормативного материала, складывающегося из норм Общей и Особенной части, и общественных отношений, которые являются практическим воплощением этих норм в правоприменительной деятельности [4, с. 98].
Принципами института соучастия являются как общие принципы, характерные для всей отрасли уголовного права: законности, справедливости, вины и т.п., так и специальные, которые присущи исключительно соучастию. Среди таких принципов можно выделить принцип индивидуализации и дифференциации ответственности в зависимости от роли лица, юридически значимых признаков личности, а также принцип взаимосвязи между действиями участников.
Описание исследования
Основной идеей института соучастия в российском уголовном праве принято считать теорию акцессорности, которая выражается в созависимости ответственности всех участников от действий исполнителя. В науке уголовного права существуют разногласия относительно того, что следует понимать под акцессорностью соучастия, а также наличия элементов данной теории в отечественном законодательстве.
Так, по мнению Л.В. Иногамовой-Хегай, в УК РФ содержатся определенные признаки акцессорности соучастия. И несмотря на то, что ответственность участников индивидуальна, она все же определяется оценкой деяния исполнителя [11, с. 256].
Справедливой представляется и позиция М.И. Ковалева, который писал, что суть теории акцессорности заключается в признании того факта, что без исполнителя невозможно соучастие, а ответственность остальных участников возможна в тех случаях, если исполнитель начал или выполнил объективную сторону преступления [5, с. 21].
В любой отрасли права существуют как в теории, так и на практике проблемные, мало проработанные аспекты, появление которых связано с различиями в трактовании законодательства, а также с разнородной судебной практикой.
Институт соучастия в уголовном праве представляет собой проблемный аспект как с точки зрения теоретической разработанности, так и с точки зрения практической деятельности правоприменительных органов.
В уголовном праве по-прежнему актуальна проблема квалификации действий, совершенных группой лиц, когда один из участников преступления не отвечает признакам субъекта в силу недостижения определенного возраста или наличием состояния невменяемости.
По мнению А. Трухина, соучастником может быть только лицо, соответствующее требованиям, установленным гл. 4 УК РФ, то есть признак соучастия вменяется лишь при условии, когда минимум два лица способны отвечать за свои действия [10, с. 46]. Напротив, еще в 2000 году в обзоре судебной практики Верховного Суда РФ за IV квартал 2000 года1 было четко указано, что преступление будет признаваться совершенным в соучастии, если лица заранее договорились о совместном его совершении, даже при условии того, что один из них не достиг возраста уголовной ответственности или признан невменяемым. Так, в 2021 году Верховным Судом РФ было рассмотрено уголовное дело по кассационному представлению заместителя Генерального прокурора РФ на определение судебной коллегии по уголовным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции, отменившей первоначальный приговор Петрозаводского городского суда Республики Карелия в отношении ФИО1, назначенный за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору), указав при этом, что совершение ФИО1 кражи посредством использования невменяемого Л. подпадает под признаки ч. 1 ст. 158 УК РФ. Верховный суд, отменяя решение кассационной инстанции, обоснованно указал, что исходя из роли ФИО1 и его совместных и согласованных действий с Л., обусловленных сговором, несмотря на освобождение Л. от уголовной ответственности в связи с его невменяемостью, не влечет исключение из обвинения ФИО1 квалифицирующего признака кражи как совершенной группой лиц по предварительному сговору. Положения ст. 32 и ч. 2 ст. 35 УК РФ не содержат формулировки о наличии вменяемости и соответствующего возраста соучастников преступления, а уголовный закон не связывает возможность признания преступления совершенным группой лиц по предварительному сговору с наличием в такой группе только лиц, подлежащих уголовной ответственности2.
Аналогичным примером различного правоприменения является решение Приморского краевого суда, который, рассмотрев в апелляционном порядке и отменив в 2023 году приговор Анучинского районно- го суда Приморского края, исключил из обвинения ФИО 2 п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ и назначил наказание по ч.1 ст. 158 УК РФ в связи с признанием второго участника преступления невменяемым3.
Итак, можно сделать вывод, что при квалификации деяния необязателен факт соответствия всех лиц признакам субъекта преступления, важно, чтобы умысел виновного был направлен на совершение преступления в соучастии.
Еще одной не до конца решенной проблемой является вопрос относительно количественного признака организованной группы. С одной стороны, ч. 3 ст. 35 УК РФ4 не устанавливает условий относительно количества лиц для организованной группы, позволяя сделать вывод о том, что достаточно хотя бы двух участников. Примером тому является обвинительный приговор Октябрьского районного суда г. Мурманска, вынесенный в 2023 году в отношении Мироновой Г.А. за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 332.1 УК РФ (в редакции УК РФ по состоянию на 23.12.2023 года) (организация незаконной миграции, совершенная организованной группой). В организованной группе, состоявшей из двух человек, заранее объединившихся для совершения преступлений, были четко распределены роли. Роль организатора и руководителя - (ФИО1), исполнителя - Миронова Г.А. Состав преступной группы был стабилен, а ее устойчивость была обусловлена заранее достигнутым и состоявшимся соглашением, наличием пла- на совместной преступной деятельности, распределением функций между участниками организованной группы, единством преступного умысла и подчинением каждого участника единой цели - извлечение дохода от преступной деятельности, связанной с организацией незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации5.
С другой стороны, в 2004 году Россия ратифицировала Конвенцию ООН против транснациональной организованной пре-ступности6. В ст. 2 данной Конвенции закреплено, что под организованной группой следует понимать оформленную группу в составе 3 или более лиц. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 года № 57 указано, что международные нормы, устанавливающие признаки составов преступлений, подлежат применению судами лишь в том случае, если это прямо установлено в статье УК РФ. Однако данное положение касается Особенной части, в то время как понятие организованной группы закреплено в Общей части [3, с. 147]. В связи с этим можно прийти к выводу, что оснований не применять рассматриваемую конвенцию нет, поэтому вопрос по поводу количественного признака такой формы соучастия, как организованная группа, остается актуальным на сегодняшний день.
Еще одной из проблем как теоретического, так и практического характера является проблема квалификации действий организатора. Так, остается открытым вопрос квалификации его деяний, когда они усматривают в себе действия пособника и подстрекателя. На практике нередко происходят случаи, когда у правоприменителя возникают сложности при отграничении функций организатора от подстрекательства и пособничества в силу их схожести [12, с. 104].
Одним из признаков организатора является сама организация всего преступления. Сложности на практике возникают ввиду того, что такая функция организатора сама по себе может совмещать роли иных участников. Однако в ситуации, когда лицо подстрекает другое лицо, например, путем обещания денежного вознаграждения, или предоставляет данные о месте нахождения потенциальной жертвы преступления, еще не означает, что такое лицо выступает в качестве организатора [6, с. 123]. Данное утверждение подтверждается судебной практикой, в частности по делам об убийствах по найму.
Так, приговором Ярославского областного суда Кукушкин был привлечен к ответственности по ч. 4 ст. 33, п. «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ8. Кукушкин предложил ФИО9 за денежное вознаграждение 30 000 руб., совершить убийство ФИО1 в связи с тем, что он узнал, что сотрудники банка разыскивают ФИО1, с которым они ранее оформили мошеннический кредит, и опасается, что он его «сдаст». ФИО9 согласился, нашел автомобиль и приготовил оружие. На дороге во время остановки ФИО9 нанес 9 ударов топором по голове, причинив смерть ФИО1, за что получил обещанное денежное вознаграждение. Исходя из материалов дела, Кукушкин не принимал участия в разработке плана преступления, а выполнял лишь функцию подстрекателя, т.е. склонил другое лица к совершению преступления путем подкупа.
Примером, когда лицо выступает уже в качестве организатора преступления, может служить приговор Вологодского областного суда. Помазан была признана виновной по ч. 3 ст. 33, п. «а», «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ9. Так, Помазан и лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя совместно, разработали план убийства ФИО1 и ФИО2 с целью скрыть квалифицированное мошенничество в отношении данных лиц. Пообещав Поломошнову денежное вознаграждение и получив от него согласие, Помазан и лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, выполняли функции организаторов: определили способ убийства, подыскали орудие, выбрали безлюдное место для причинения смерти и сокрытия трупов.
Исходя из анализа судебной практики, можно прийти к выводу, что для признания лица организатором преступления необходимо, чтобы его действия состояли в координации противоправного посягательства, когда исполнитель получает от него план совершения преступления. В ситуациях, когда исполнителю предоставлена возможность самостоятельно спланировать преступление, действия такого лица не выходят за рамки подстрекателя.
Принятие в 2004 году изменений в ст. 17 УК РФ вызвало в науке уголовного права дискуссию относительно проблемы квалификации так называемых «сопряженных преступлений», за которые в санкциях статей предусмотрено более строгое наказание.
Например, в качестве одного из квалифицирующих признаков ст. 105 УК РФ выступает убийство, сопряженное с бандитизмом. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 №110 разъяснило, что содеянное в данном случае необходимо квалифицировать по п. «з» ч. 2 ст. 105 и ст. 209 УК РФ. То есть если участник банды совершает в процессе ее функционирования убийство, то его действия образуют совокупность по соответствующим статьям УК РФ.
Как отмечает А. П. Рожнов, такая тенденция квалификации в правоприменительной деятельности напрямую игнорирует положение ч.1 ст. 17 УК РФ [7, с. 153], в связи с чем возникает вопрос: понятие составного преступления, закрепленное в данной статье, не включает в себя случаи сопряженного убийства, являясь своего рода исключением из данного положения?
В литературе можно встретить две противоположные точки зрения относительно квалификации таких деяний. Так, Н.Н. Са-лаева полагает, что в данном случае правильно говорить о составном преступлении, соответственно, квалифицировать сопряженные преступления необходимо лишь по конкретному пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ без совокупности, так как повышенная опасность таких противоправных посягательств уже учтена в санкции, а обратное приводит к нарушению принципа справедливости, закрепленному в ст. 6 УК РФ [8, с. 7].
По мнению Ш. Селихова, сопряженное преступление и убийство имеют свой объект, признаки и последствия, поэтому являются самостоятельными преступлениями и требуют квалификации с учетом их совокупности [9, с. 23].
Похожей позиции придерживается Конституционный Суд РФ. Так, Варлаков обратился с жалобой по поводу некон-ституционности ч. 2 ст. 209 УК РФ, которая позволяет квалифицировать разбой, совершенный организованной группой, в совокупности со ст. 209 УК РФ, при наличии оснований. По мнению заявителя, это противоречит ст. 50 Конституции РФ. В результате рассмотрения жалобы Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что ст. 209 и ст. 162 УК РФ представляют собой самостоятельные составы, поскольку имеют разный объект преступного посягательства, отличаются характером посягательства и степенью опасности, а также подчеркнул, что квалификация по совокупности данных составов не только не противоречит принципу справедливости, а напротив, гарантирует его действие11.
Обобщая изложенное, можно утверждать, что на сегодняшний день судебная практика, руководствуясь рекомендациями постановления Пленума ВС РФ, идет по пути квалификации сопряженных составов по совокупности, что, как нельзя не заметить, противоречит ч. 1 ст. 17 УК РФ. В сложившейся ситуации (на примере убийства, совершенного вооруженной организованной группой) существует три варианта решения проблемы: квалифицировать сопряженное преступление лишь по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ; отказаться от сопряженных преступлений, соответственно, квалифицируя действия по ч. 1 ст. 105 УК РФ (при отсутствии других квалифицирующих признаков) и по ст. 209 УК РФ; изменить положение ст. 17 УК РФ.
Заключение
Таким образом, на основании проведенного анализа необходимо отметить, что правоприменительная практика в силу своего разнообразия и отсутствия разъяснений по некоторым определяющим вопросам прибегает к применению закона по аналогии. Нерешенность некоторых проблем в теории порождает появление проблем прак- тического характера, многие из которых остаются актуальными в настоящее время и требуют более тщательной законодательной проработки, а также большего внимания со стороны Верховного Суда для упорядочения и создания единообразия в применении некоторых норм уголовного закона в соответствии с его правовым содержанием и смыслом.