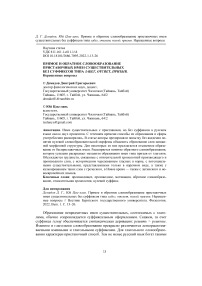Прямое и обратное словообразование приставочных имен существительных без суффиксов типа забег, отсвет, призыв. Нерешенные вопросы
Автор: Демидов Дмитрий Григорьевич, Юй Цзылань
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 1, 2022 года.
Бесплатный доступ
Имен существительных с приставками, но без суффиксов в русском языке около двух процентов. С течением времени способы их образования и сферы употребления расширялись. В статье авторы предприняли попытку без введения понятия нулевой словообразовательной морфемы объяснить образование слов названной морфемной структуры. Для некоторых из них предлагается отыменное образование от бесприставочных имен. Расширяется понятие обратного словообразования, которое успешно раскрывает механизм образования имен типа призыв от глаголов. Обсуждаются трудности, связанные с относительной хронологией производящего и производного слов, с историческим чередованием гласных в корне, с потенциальными существительными, представленными только в наречном виде, а также с калькированием таких слов с греческого, в Новое время - также с латинского и новоевропейских языков.
Производящее, производное, мотивация, обратное словообразование, относительная хронология, нулевой суффикс
Короткий адрес: https://sciup.org/148324332
IDR: 148324332 | УДК: 811.161.1+811.1/.8
Текст научной статьи Прямое и обратное словообразование приставочных имен существительных без суффиксов типа забег, отсвет, призыв. Нерешенные вопросы
Демидов Д. Г., Юй Цзы-лань. Прямое и обратное словообразование приставочных имен существительных без суффиксов типа забег, отсвет, поход, призыв. Нерешенные вопросы // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2022. Вып. 1. С. 13‒26.
Образование непредметных имен существительных, соотносимых с глаголами, обычно сопровождается суффиксальным оформлением. Скажем, за счет суффикса (е)ниj обеспечивается синтаксическая деривация: решить > решение . Именное и глагольное словообразование прекрасно различаются легкораспознаваемыми именными и глагольными суффиксами. Для глагольного словообразования характерен приставочный способ. Тем не менее русский язык богат такими
«странными» именами существительными, в составе которых имеется приставка, но нет суффикса. В [12] таких слов оказалось 1,8 %, всего более 1,4001. Несмотря на простоту и даже скупость и кажущуюся недостаточность своего морфемного состава, такие слова быстро распространяются в научных, технических, публицистических текстах и разговорной речи.
Будучи средствами образного выражения, они полюбились поэтам и писателям «серебряного» века, которые использовали эту структуру существительных даже для авторских неологизмов. Так, в 1912 г. И. Северянин написал: «Призрачный промельк экспресса дал мне чаруйную боль». [Северянин И. В пяти верстах по полотну... (1912)]2 [13]. В 1917 г. он уже называет этим словом целое стихотворение из 8-ми строк «Промельк». Новое удачное слово подхватили С. Кирсанов, О. Мандельштам, Б. Пастернак, А. Тарковский и многие другие поэты, так что оно стало поэтизмом.
В последние годы таких существительных с метафорическим значением становится всё больше в разговорной речи: вброс, наезд, облом, распил, слив и т. п. [8] Как видим, большинство из них мужского рода, из всех таких слов в [12] к мужскому роду относится 77 %.
Имена с приставками, но без суффиксов имеют давнюю историю. Многие из них появились в дописьменный период или образованы еще в Киевской Руси и встречаются в первых памятниках письменности ( въходъ, законъ, завѣтъ и др.). Со временем их словообразовательные отношения к непроизводным именам существительным и приставочным глаголам пережили значительные изменения. Архаические словообразовательные связи сохраняются отчасти и в наше время. Слово забег не может быть произведено от глагола побежать по формальным причинам, а от глагола забе́гать — по семантическим причинам. Единственно возможным решением остается бег > забег , что соответствует становлению спортивной терминологии. Аналогичным образом выстраивается словообразовательная пара ход > поход . Единичные случаи приставочного отыменного образования имен представляют собой наследие весьма распространенного явления.
Усиление глагольно-именного словообразования вывело на первое место отношения типа призывать > призыв. Это связано с потебнианским углублением синтаксической перспективы высказывания и выходом глагола в центр как синтаксической, так и словообразовательной системы. Глагол из признака имени стал главным управляющим членом предложения и мотивирующим дальнейшее словопроизводство словом.
Условием возникновения производных существительных без суффикса, в которых сохраняется корневая гласная глагола несовершенного вида (обжиг, посыл, призыв, разрыв), является обратная словообразовательная соотнесенность с приставочными глаголами. Г. А. Николаев [13] показывает содержание понятия обратной соотнесенности на примере словообразовательной цепочки царь > царство ‘государство, управляемое царем’ > царствовать > царствование. В ней за счет синонимии суффиксальных существительных возникла новая соотнесен- ность, благодаря которой сложилось и новое, близкое к глаголу значение: царство ‘правление царя, время правления’ ← царствовать. В своем историческом развитии словообразовательная цепочка претерпевает изменения. Исконный вид: пьяный > пьянство > пьянствовать. Мотивационная связь между словами пьяный и пьянство ‘опьянение’ со временем утрачивается, она заменяется новой связью пьянствовать > пьянство ‘неумеренное потребление спиртных напитков’, поэтому между словами пьянствовать и пьянство возникла обратная соотнесенность (вторичная мотивация) [1, с. 45–46].
Вторичные мотивационные отношения возникают и при слове отсвет . Производящим для него является существительное свет . От имени отсвет произведен глагол отсвечивать , который может вступать со своим именем в отношения вторичной мотивации, или обратной соотнесенности. Отсвет понимается уже не как отраженный свет, а как имя действия — отсвечивание . Таким образом, в словообразовательной цепи свет > отсвет > отсвечивать > отсвечивание взаимодействие между вторым и третьим ее членами приводит к переориентации мотивационных отношений, которая поддерживается приставкой. Следующим, завершающим, шагом, который делает словообразовательная система на основе вторичной мотивации, является обратное словообразование новых слов: призывать > призыв .
Все приставки, за исключением без - и не -, активно участвуют в глагольном словообразовании: нести > отнести, резать > отре́зать, говорить > отговорить (в разных значениях). Мы настолько привыкли к приставкам как к специфически глагольному средству словообразования, что с легкостью отказались бы от производящего имени отсвет и признали бы производящим бесприставочный глагол: светить > отсвечивать . Тогда словообразовательным средством стал бы конфикс от-...-ива- с участием глагольной приставки. Но в этом случае мы бы преувеличили словообразовательные способности глагола светить ‘излучать свет’. Как и многие другие глаголы 2-го спряжения на - ить ( бомбить, трубить, славить, чернить ), он отыменной и производен от существительного свет . По отношению к нему глагол светить и имя отсвет занимают параллельные производные позиции, и отыменное глагольное образование продолжается дальше, в уже осложненном приставкой виде: отсвет > отсвечивать1 .
В старых грамматиках [14, с. 214; 11, с. 181–182, 157–160; 2, с. 648–650; 7, с. 230–231; 5, с. 213–215] приставки называются просто предлогами или слитными предлогами . Это вполне соответствует их происхождению. Одна и та же частица (первообразное наречие), оставаясь свободной, управляет падежной формой имени, а в слитном употреблении образует новое слово. Первоначально слово, обозначающее деятеля или действие, было потебнианским «первообразным причастием» без отчетливых признаков имени или глагола. В позиции подлежащего или дополнения это слово оформлялось как имя, в позиции сказуемого — как глагол. Перед глаголом предлог тесно примыкал к основе, оставаясь наречием, и не был способен изменить лицо, время или наклонение, поэтому быстро переходил в приставку. Перед именем предлог мог также
1 Чередование т//ч объясняется пропуском сразу двух ступеней словообразования: отсвет > *отсветить > *отсвечать > отсвечивать , подробнее см. в [9].
становиться первой частью нового слова и не влиять на дальнейшее образование его падежных форм, но в позиции второстепенного члена предложения, который, как и предлог, зависел от глагола, появилась и вторая возможность — вместе с окончанием участвует в той или иной синтаксической конструкции, управляемой глаголом. Вторая возможность предлога ограничена только косвеннопадежными словоформами имен существительных, первая возможность не зависит от части речи. Более того, только перед глаголом приставка грамматикализуется вплоть до чистовидовой и утрачивает свое исконное словообразовательное значение.
И приставочные глаголы, и приставочные существительные должны отвечать так называемому «критерию Винокура»1. Чтобы выполнялся критерий Винокура для бессуффиксальных приставочных имен, остается простейшее производящее имя без приставки: блеск > отблеск , свет > отсвет . В этом случае принципиального отличия от приставочных образований имен лиц нет: внук > правнук, товарищ > сотоварищ .
Производящие обычно появляются раньше своих производных. Так, слово пускъ впервые появилось в русской письменности в XV в., а существительное впускъ — только в конце XVIII в.: «И потомъ князь великои иного боярина о пускахъ и о мостникахъ прислалъ» (Псков. I л. 6986 г.)2. «При разрѣшеніи выше-помянутаго товарамъ выпуску Коммиссія наблюдала и то, чтобы впускъ онымъ въ Москву изъ разныхъ мѣстъ безъ всякой осторожности не производился...» [коллективный. Описанiе моровой язвы, бывшей въ столичномь городѣ Москвѣ съ 1770 по 1772 годъ]3. Значение ʻДействие по значению глагола пустити (в знач. 1)ʼ появляется у слова пускъ в грамоте 1696 г.4, то есть тоже намного ранее производного имени действия, следовательно, есть основания восстанавливать связь пуск > впуск .
Направление образования летъ > взлёт подтверждается тем фактом, что производящее имя в значении ʻдействие по значению глагола летѣти (в знач. 1)ʼ известно уже в 1656 г.5 Слово взлёт6 появляется только в 1848 г.: «...дни подымались высоко, другие густо кипели на самом переломе, и все они на взлете и на падении яркими звездочками отделялись от темноты подземного свода...» [Жуковский В. А. О молитве].
Как видим, при словообразовательном анализе слов отблеск, отсвет, впуск, взлет удается применить критерий Винокура. Нет необходимости прибегать к реконструкциям * впуск < впускать, взлет < взлетать на основании явной обратной отнесенности, которая сложилась к нашему времени. Указанные связи имеют не словообразовательный, а только ассоциативный, парадигматический характер ( впускать : впуск, взлетать : взлет ) и широко используются в синхронной синтаксической деривации, которая, как видим, может и не совпадать с реальным процессом словопроизводства, растянутым во времени.
Критерий Винокура хорошо выполняется при прямом словообразовании, но если обратная соотнесенность вырабатывает в себе силу вторичной мотивации и вслед за этим реализует новое, обратное направление словообразования, то производные слова вроде призыв оказываются проще своих производящих глаголов вроде призывать . Таким образом, критерий Винокура не распространяется на обратное словообразование.
В современных школах словообразовательную пару вроде прилететь > прилет объясняют путем введения понятия нулевого суффикса. Это понятие подвергается критике, которую мы разделяем. Так, И. Г. Добродомов и А. М. Камчатнов считают, что такое введение не оправдано. Например, в праславянском языке слова, при-лет-ъ и плод-ъ имеют, за вычетом приставки, один и тот же морфемный состав; но в современном русском языке слову прилет приписывается нулевой суффикс, а в слове плод суффикса не находят, хотя в парадигме плод : плодить на месте -и- в слове плод остается такая же пустая клетка. Слово плод содержит лишь нулевое окончание, понятие которого вводится на основании реальной морфологической парадигмы. По таким парадигмам происходит словоизменение, словообразование же протекает по моделям. Недопустимо понятия словоизменения переносить на словообразование. При словообразовательной связи одно слово объясняет другое, а второе объясняется первым, но в словоизменении со словоформами одного слова этого сделать невозможно. Слова ходить и ход связаны друг с другом именно потому, что у них есть одинаковый корень - ход -, но это не означает автоматически, что между ними существует словообразовательное отношение от глагола к имени [10, с. 17–20].
Отглагольное образование имен в наше время преобладает, но это не означает, что всякое рассмотрение ближайших друг к другу по родству глагола и имени требует производным считать имя, и если при образовании имени нарушается критерий Винокура, то применять понятие нулевого суффикса. Реальная словообразовательная цепочка критерия Винокура не нарушает: ходъ > ходити > хождение . Отношения типа прилететь > прилет, обжигать > обжиг тоже реальны, но для их объяснения требуется не парадигматическое понятие нулевого суффикса, а дериватологическое понятие обратного словообразования.
Впервые обратное словообразование было открыто в английском языке языковедом Джеймсом Мюрреем (James Murray)1. Он дал для своего родного языка определение обратного словообразования, которое в целом применимо и к русскому языку. Согласно Дэвиду Кристалу (David Crystal), обратное словообразование — это термин, используемый в исторических исследованиях по морфологии (в расширительном значении, в противопоставлении семасиологии) в случае, если более краткое слово образовано путем удаления аффикса из более длинного слова, которое уже существует в языке. Например, глагол edit произведен от существительного editor [21] .
У нас понятие обратного словообразования применил Н. М. Шанский для случаев народной этимологии типа зонт < зонтик . В результате переосмысления голландского Zondek буквально ‘от солнца навес’ по типу дом > дом-ик возникло переразложение зон-тик > зонт-ик и как следствие новообразование зонт . Согласно Н. М. Шанскому, обратное словообразование представляет собой особый вид морфологического словопроизводства, «посредством которого новое слово образуется от существующего не в виде производного, а в виде производящего» [19, с. 291].
Идею обратного образования развивает Г. А. Николаев. Он описывает основание, которое созревает в языке для этого, и называет его обратной соотнесенностью, которая «…представляет собой такой тип словообразовательной соотнесенности, при которой не производящее мотивирует значение производного (обычный тип коррелятивной связи), а, наоборот, производное слово является мотивирующим по отношению к производящему» [13, с. 44]. По аналогии с такой вторичной мотивацией другие производные основы образуют уже свои новые более простые производные слова.
Мы предлагаем еще более расширить применение понятия обратного словообразования, поскольку имеются случаи обратной соотнесенности типа отсвет ← отсвечивать . Если при обратной соотнесенности производное слово оказывается мотивирующим по отношению к производящему, то это порождает противоречие, которое исторически разрешается в реализации обратного словообразования, когда мотивационные отношения вновь входят в гармоническое соответствие с отношениями словообразовательными.
Приставки могут содержаться уже в производящих глаголах (призывать), поэтому в случае отсутствия суффиксов в производных словах (призыв) существительные с приставками могут быть объяснены как произведенные путем обратного словообразования от приставочных глаголов. Случаи обратного словообразования должны быть подтверждены хронологически, т. е. если для приставочных существительных без суффиксов в русской письменности есть соотносимые с ними приставочные глаголы, которые не только появились раньше, но и по составу оказываются более сложными, а по семантике — мотивирующими, то целесообразно эти приставочные имена относить к сфере обратного словообразования.
Об обратном словообразовании имеется специальная статья [18]. Этот способ образования новых слов интерпретируется в ней как «отсечение суффикса», которому в узусе приписывается значение, отсутствующее в реальном словообразовательном значении. Например, если в суффиксе -(е)к- увидеть уменьшительное значение, то станет возможным пушка > пуха ‘большая пушка’. Применяется представление, похожее на то, которым обычно описывают аббревиацию типа зам ( заместитель ), колхоз ( коллективное хозяйство ). В словах зам, колхоз, действительно, происходит искусственное усечение основ, но только реальная исторически существовавшая модель не восстанавливается. «Усечение» является иной разновидностью обратного словообразования. По существу при «отсечении суффикса» происходит реконструкция производящего бессуффиксального слова, которое является производным. Объем понятия, связанного с перестановкой производящего и производного в словообразовательном процессе, в этой статье обогащается новыми интересными фактами.
Однако термины усечение основы и отсечение суффикса склоняют к отказу от вводимого понятия обратного словообразования и к возвращению к содержанию понятия прямого словообразования. Образование более простых существительных от более сложных глаголов из объема этого понятия И. С. Улухановым исключается на том основании, что «мотивирующее и мотивированное относятся к разным словоизменительным типам (разным склонениям или спряжениям). Эта смена парадигмы (системы форм слова) и является словообразовательным средством: выходить — выход ...» [18, с. 57].
В результате причина и следствие меняются местами. Происходит перенесение морфологии как науки только о внешней форме слова в словообразование — науку о движении от внутренней ко внешней форме как следствию ее развития. Смена морфологической парадигмы есть следствие словообразовательного акта, внешнее морфологическое оформление слова в соответствии с возможностями производной основы. Смена парадигмы может быть словообразовательной целью, но никак не средством. При сохранении лексического значения, когда происходит синтаксическая деривация, это особенно хорошо видно. Если бы морфологическая система действительно обладала такой таинственной словообразовательной силой, то мы бы не имели широко распространенного в русском языке перехода из одной части речи в другую ( учащийся, дежурный, столовая ), когда слово оформляется «не по своей» части речи, никак не меняя часть своей морфологической парадигмы.
И все-таки с установлением словообразовательных отношений в парах вход — входить, выход — выходить, исход — исходить возникают две трудности. Имена въходъ, исходъ и глаголы въходити, исходити хорошо известны уже первым славянским памятникам письменности, переведенным с греческого, как это видно из [16], и унаследованы русским литературным языком. Скорее всего, эти имена и глаголы образованы независимо друг от друга, их производящие образцы находятся в греческом языке, и остается нерешенным вопрос, какие собственно сла- вянские модели1 послужили основой калькирования. Трудно решить вопрос и об образовании исконно русских слов с приставкой вы-, но уже по причине относительной хронологии. Глагол выходити известен уже в памятнике XII в. «Хождение игумена Даниила». Имя выходъ появляется в то же время, в «Вопрошании Кирика и Саввы» [15]2. Вероятно, и исконно русские приставочные слова образовались независимо друг от друга и в разных значениях прямым способом: ходъ > выходъ, ходити > выходити. Тогда непосредственных словообразовательных отношений между словами разных частей речи выходъ и выходити усматривать не следует и прибегать к идее смены парадигмы как словообразовательному средству нет надобности. Но мы разделяем саму по себе исследовательскую настороженность при смене морфологических парадигм в процессе образования нового слова.
Помимо неясных показаний относительной хронологии нерешенным вопросом остается, насколько важным в поиске производящего является историческое чередование в корне. В [17] слово бор толкуется как «‘сбор, налог’. Также многочисленные производные: сбор, убо́р и т. д. Связано чередованием гласных с беру́, брать»3. Судя по контексту словарной статьи, корневой гласный определяет словообразовательные пары бор > сбор и бор > убор. В русских памятниках письменности слово боръ появляется в XIII в. [18], съборъ — в 1073 г. [15], производное от уборъ уборокъ ‘мера вместимости’ — в конце XIII в. в Русской Правде по Синодальному списку [15]. Относительная хронология и семантика не подтверждают отыменных производных сбор и убор. Но словообразовательной паре боръ > выборъ относительная хронология уже не противоречит, поскольку сущ. выборъ известно только с 1574 г.4 Если боръ возможно реконструировать как «первообразное причастие», то направление чередования по качеству *о//е примет вид *о > *е. Оно прямо противоположно новому направлению, связанному с переходом [’é] > [’о́], на письме е > ё. В личных формах корневой гласный ослабляется, а в инфинитиве и вовсе редуцируется: *borъ > беру > бьрати. В именах обратного производства от глаголов несовершенного вида типа призыв формальная сторона совпадает с семантической. В слове выбор сохраняется корневая гласная более древнего имени боръ, но возникают семантические затруднения. Если на первое место всё же ставить единство корневой гласной, то по формальным и хронологическим основаниям будет боръ > выборъ, только по формальным — боръ > съборъ и боръ > уборъ, по всем основаниям — беру > выберу , беру > съберу и беру > уберу.
Мы считаем, что есть возможность для всех производных с алломорфом - бор - рассматривать версию прямого приставочного отыменного образования боръ > выборъ, съборъ, уборъ , несмотря на трудности, связанные с относительной хронологией. Отношения выбирать : выбор, собирать : сбор, убирать : убор вторичные. Они отвечают требованиям синхронной синтаксической деривации, но не отвечают диахронным словообразовательным отношениям, поскольку не сохраняют единого облика производящей и производной основ. Во всяком случае в дериватологии как науке об образовании (порождении) и производстве слов нерешенным остается вопрос различения словообразовательных и деривационных отношений. Для первых относительную хронологию в той или иной степени учитывать необходимо, для вторых — нет.
Иногда возникают трудности с определением само́й относительной хронологии. Так, слово зор ‘зрение’, зоры ‘взоры, взгляды’ известно в омских говорах и северных былинах1. Устойчивый фольклорный жанр и удаленность диалекта от центра суть факторы, способствующие сохранению архаизмов, следовательно, по косвенным признакам можно судить о древности производящего. По формальным фонетическим и семантическим основаниям зор > взор . Глагол 2-го спряжения зьрю , зьриши содержит корневую гласную на ступени редукции, а ближайший приставочный глагол воззрю, воззреть осложнен иной приставкой и является славянизмом в русском языке. Следовательно, даже без прямого решения хронологического вопроса отсутствие подходящего глагола усиливает версию зор > взор . По той же причине отыменными следует считать образования всплеск, взвод, дозор, доход, забег, извоз, исток, обоз и обвоз, погон, поход, сугроб, сумрак и некоторые другие. Сама по себе неплохо представленная модель «бесприставочное бессуффиксальное сущ. > приставочное сущ.» без перехода в иную часть речи, чего и не способна производить приставка, требует в качестве первоочередной рассматривать эту версию и только в случае надежной относительной хронологии прибегать к версии обратного отглагольного образования.
Поиск производящего слова становится легче, когда существует бессуффик-сальный глагол, не более сложный по своему составу, чем возможное производящее имя. Так, существительное счёт известно с 1543 г.2 Семантически оно хорошо соотносимо с глаголом сочту, счесть — считать. Характер корневого гласного и более простое оформление требуют в качестве ближайшего возможного производящего выбрать глагол совершенного вида счесть, известный с XIV в. [15]. В этом случае отношение счесть > счет трудно даже назвать обратным, так как производящий глагол не сложнее по своему составу, чем производное существительное. Другого ожидаемого производящего — древнего имени *чьтъ м. р. (совр. чет) — мы не находим; древнерусск. чета ж. р. ‘община, собрание, толпа, полчище’, известное с XI в. [15], следует отвергнуть по семантическим и морфологическим причинам. Однако при понимании слова счет как отыменного не возникнет проблемы перехода в другую часть речи. Таким образом, вопрос о прямом образовании чет > счет или псевдообратном образовании счесть > счет остается нерешенным.
Если учитывать существительные с другими приставками ( вычет, зачет, начет, отчет, перечет, причт, расчет, учет ), то среди них только слово отчет не будет соотносимо с бессуффиксальными глаголами ~ честь , содержащими соответствующие приставки. Это делает версию счесть > счет более предпочтительной.
Следующую трудность представляют собой словообразовательные кальки. Такие слова, как ввод, воздух, восток, восторг, восход, вход, закон, заход, изверг, извет, исход, обиход, подход, приклад ‘символ’, расход, собор, суть древнейшие старославянские кальки с греческого. Слова вгиб, вздор, вздох, нарыв, порыв, предлог, предмет являются поздними кальками с латинского, французского или немецкого языков. Факт калькирования устанавливается по первым текстам, в которых эти слова встречаются и которые оказываются переводными. Например: «Всѣ вѣтреныя, высокомысленныя, упрямцы, бѣшеныя, свое-нравныя, курантовъ или лжей изобрѣтатели, наговорщики, объѣдальщики, шуты, вздоры , лгачи, сумозброды, и симъ подобныя люди, суть безобразныя уроды» [Волчков С. С. Придворной человѣкъ [перевод книги Грациана с французского] (1742)] «Ничего вздоромъ не дѣлать; но во всемъ осторожно поступать» [15]1. Казалось бы, при надежно найденном иноязычном источнике задача словообразовательного анализа калькированного слова может считаться решенной, однако остаются морфонологические «мелочи». Например, чтобы объяснить корневой гласный [ы] в слове по-рыв (фр. im-pulsion ), следует обратиться к глаголу несовершенного вида порывать(ся) , и тогда внутренним собственно русским образцом кальки будет типичное отношение, характерное для обратного образования: порывать(ся) > порыв . Необходимость обращения к русским моделям для объяснения калькирования возникает при анализе поздних калек, происходящих на фоне развитой собственно русской системы обратного словообразования. Древнейшие кальки иногда не находят никаких глагольных соответствий ( воздух, закон ) и лучше соотносятся с прямым образованием от простейших имен ( духъ, конъ ).
Еще одной трудностью, связанной с образованием приставочных имен без суффиксов, являются наречные образования, для которых не всегда находятся полноценные производящие имена существительные, а если находятся, то возникают сомнения в их относительной хронологии. Например, для наречий, образованных, по видимости, на основе конструкции «в + Вин. п.», взамен и вдоволь, удается найти существительные замен1 и доволь2, но, по всей вероятности, для наречного предлога взамен с Род. п., в отличие от наречия взамен, требуется восстановить еще одну словообразовательную ступень на основе цитаты: «И привезли же мы царю да Соломону, Привезли мы ему дани, дань же пошлину, Еще пусть замен царя принимает же все, Принимает-то царица Соломониха» (Печора и Зимний берег, 1961)3. Скорее всего, при усвоении литературной речью диалектного предлога произошло его усиление приставкой в-: замен > предлог замен в позиции Вин. п. > этот же предлог в усиленном варианте взамен. Первое употребление наречия взамен по4 в 1620 г. (взяты, взамен) показывает непосредственное образование от существительного *замен. Но реальность языка требует признать для того времени такое существительное лишь потенциальным результатом обратного образования. Таким образом, для наречия словообразовательная цепочка предполагается такой: заменить > взамен.
Диалектное существительное проворот ( Без провороту провороту нет ‘очень много’5), давшее наречие невпроворот , восходит к диалектному же глаголу проворотить ‘2. Привести в порядок’6. Следовательно, и здесь можно усмотреть обратное отглагольное словообразование проворотить > проворот , от которого литературному языку досталось лишь отдельное наречие невпроворот .
Конструкция «на + В. п.» также оказывается реальным образцом не для всех наречий этой разновидности. Наречие навзрыд восходит к выражениям типа взрыд рыдать, плакать взрыд , отмечаемых в7 с 1790 г. В то же время (1791 г.) в литературе появляется и глагол взрыдать , следовательно, взрыдать > взрыд (только в позиции Вин. п.) > нареч. взрыд > навзрыд как приставочное образование от наречия.
Для наречия наповал находится диалектное существительное повал8 , которое скорее всего является результатом обратного образования, отсюда: повалить > повал > наповал .
Трудно установить, какие именно существительные образовали наречия наизготове, на излете в конструкции «на + П. п.», поэтому приходится говорить о потенциальных существительных *изготов(а), *излёт, а образование наречий объяснять как отглагольное: изготовиться > наизготове, излететь1 > на излёте. Словообразовательным средством будет тогда конфикс на-...-е.
Существительные измор и утёк известны лишь в двух формах — на измор, наутек и измором, утеком . Они также являются результатом отглагольного обратного образования: изморить > измор, утекать > утек . В данном случае мы видим промежуточную стадию между пока еще не реализовавшимся потенциальным существительным, отраженным в наречной форме, и полноценным свободным именем существительным со всеми его падежными словоформами.
Изложенные данные требуют серьезного пересмотра наших представлений о содержании морфолого-синтаксического способа словообразования и индивидуального подхода к образованию производных наречий.
Итак, представляется, что для словообразовательного анализа приставочных имен существительных без суффиксов требуется учитывать формальную морфонологическую сторону, относительную хронологию производящего и производного и семантико-мотивационную сторону словообразовательного процесса, который может не совпадать с синхронным деривационным отношением. Следует отказаться от идеи обратного словообразования таких имен от глаголов, если признавать нулевую суффиксацию. Если же, напротив, отказаться от понятия нулевого словообразовательного суффикса, потому что изучается не парадигматическое, а дериватологическое измерение языка, то для таких случаев вполне возможно расширить понятие обратного словообразования. Тогда можно считать, что существительные типа отсвет образовались прямым приставочным способом от непроизводных имен, типа призыв — обратным способом от глаголов, типа завет — калькированы с греческого, типа вгиб — с латинского и новоевропейских языков. Некоторые существительные такого состава и вовсе остаются потенциальными, так как представлены только в наречном сочетании, например, на излёте . Среди нерешенных вопросов, связанных с образованием таких имен, можно назвать следующие: насколько можно пренебрегать отсутствием употреблений производящего слова ранее производного; насколько важным в поиске производящего является историческое чередование гласного в корне; можно ли считать обратным образование таких имен от приставочных бессуффиксальных глаголов; при каких условиях следует отказываться от простейшего бесприставочного бессуффиксльного имени как производящего; насколько следует учитывать собственно русские модели образования при установленных словообразовательных кальках; наконец, в какие словообразовательные цепочки входят потенциальные и реальные имена существительные такой структуры, связанные с образованием наречий.
Список литературы Прямое и обратное словообразование приставочных имен существительных без суффиксов типа забег, отсвет, призыв. Нерешенные вопросы
- Балалыкина Э. А., Николаев Г. А. Русское словообразование: учебное пособие / редактор Ф. М. Абубакирова. Казань: Изд-во Казанского университета, 1985. 184 с. Текст: непосредственный.
- Барсов А. А. Российская грамматика Антона Алексеевича Барсова. Москва: Изд-во МГУ, 1981 (=1785). 776 с. Текст: непосредственный.
- Бернштейн С. Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков: чередования, именные основы. Москва: Наука, 1974. 380 с. Текст: непосредственный.
- Винокур Г. О. О славянизмах в современном русском литературном языке // Избранные работы по русскому языку. Москва: Учпедгиз, 1959. С. 443–459. URL: http://www.philology.ru/linguistics2/vinokur-59e.htm (дата обращения 12.08.2020). Текст: электронный.
- Востоков А. Х. Русская грамматика Александра Востокова, по начертанию его же сокращенной грамматики полнее изложенная. Санкт-Петербург: В тип. И. Глазунова, 1831. 449 с. Текст: непосредственный.
- Геккина Е. Н. Из истории слов сосуля и сосулька // Русская речь. 2019. № 5. С. 22–33. Текст: непосредственный.
- Греч Н. И. Пространная русская грамматика, изданная Николаем Гречем. Т. 1. Санкт-Петербург: В тип. издателя, 1827. 408 с. Текст: непосредственный.
- Дементьев В. В. Активный способ метафоризации в современной разговорной речи (бессуфиксальные отглагольные дериваты) // Повседневная речь как объект лексикографии (Тринадцатые Шмелевские чтения): тезисы докладов международной конференции (23–25 февраля 2020 г.) / ответственный редактор Л. П. Крысин. Москва: Изд-во Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 2020. С. 23–24. URL: http://www.ruslang.ru/doc/smelevskie-thesis.pdf (дата обращения 01.09.2020). Текст: электронный.
- Демидов Д. Г., Камчатнов А. М. Происхождение двух моделей инфиксального глагольного словообразования в истории русского языка: глаголы на -ать (-ять) и -ивать, -ывать // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2019. № 2 (76). С. 115–124. Текст: непосредственный.
- Добродомов И. Г., Камчатнов А. М. Дериватологические признаки // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2014. № 3 (57). С. 13–20. Текст: непосредственный.
- Ломоносов М. В. Российская грамматика. Санкт-Петербург: Типография при Имп. АН, 1755. 210 с. Текст: непосредственный.
- Малый академический словарь. Словарь русского языка: в 4 томах / РАН, Ин-т лингв. исследований; под редакцией А. П. Евгеньевой. Москва: Рус. яз.; Полиграфресур-сы, 1999. Текст: непосредственный.
- Николаев Г. А. Обратная соотнесенность и обратное словообразование // Русское и славянское словообразование: Opera selecta / под общей редакцией К. Р. Галиул-лина. Казань: Изд-во Казанского университета, 2011. С. 44–50. Текст: непосредственный.
- Смотрицкий М. Грамматика. Москва: Печатный двор, 1648. 388 с. Текст: непосредственный.
- Срезневский И. И. Материалы для Словаря древнерусскаго языка по письменнымъ памятникамъ, трудъ И. И. Срезневскаго. Санкт-Петербург: Типография Императорской академии наук, 1893. 996 с. Текст: непосредственный.
- Старославянский словарь (по рукописям X–XI вв.) / редактор Р. М. Цейтлин [и др.]. Москва: Русский язык, 1994. 842 с. Текст: непосредственный.
- Фасмер М. Этимологический онлайн-словарь русского языка Макса Фасмера. URL: https://lexicography.online/etymology/vasmer/ (дата обращения: 09.03.2022). Текст: электронный.
- Улуханов И. С. Обратное словообразование // Русская речь. 1977. № 2. С. 51–57.
- Шанский Н. М. Очерки по русскому словообразованию. Изд. 2. Москва: URSS, 2005. 332 с. Текст: непосредственный.
- Юй Цзылань. Словообразование русских приставочных имен существительных без суффиксов и их участие в ментальности: диссертация на соискание ученой степени магистра гуманитарных наук / Гос. ун-т Чжэнчжи, 2020. 323 с. Текст: непосредственный.
- Crystal D. Alphabetical Entries. In A Dictionary of Linguistics and Phonetics (6th Edition). Melbourne: Blackwell Publishing, 2008. 229 p.