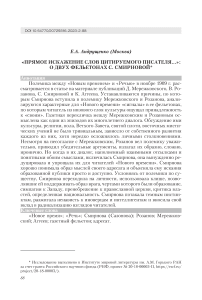"Прямое искажение слов цитируемого писателя.": о двух фельетонах С. Смирновой
Автор: Андрущенко Е.А.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 2 (65), 2023 года.
Бесплатный доступ
Полемика между «Новым временем» и «Речью» в ноябре 1909 г. рассматривается в статье на материале публикаций Д. Мережковского, В. Розанова, С. Смирновой и К. Аггеева. Устанавливаются причины, по которым Смирнова вступила в полемику Мережковского и Розанова, анализируются характерные для «Нового времени» «сигналы» в ее фельетонах, по которым читатель из низового слоя культуры ощущал принадлежность к «своим». Газетная перекличка между Мережковским и Розановым осмыслена как один из эпизодов их многолетнего диалога. Обсуждение ими культуры, религии, пола, Ветхого Завета, святой плоти, восточных мистических учений не было тривиальным, зависело от собственного развития каждого из них, хотя нередко осложнялось личными столкновениями. Несмотря на несогласие с Мережковским, Розанов вел полемику уважительно, приводил убедительные аргументы, излагал их образно, сложно, иронично. Но когда в их диалог, наполненный взаимными отсылками и понятными обоим смыслами, включилась Смирнова, она вынужденно редуцировала и упрощала их для читателей «Нового времени». Смирнова хорошо понимала образ мыслей своего адресата и объясняла ему искания образованной публики просто и доступно. Уклоняясь от полемики по существу, Смирнова переходила на личности, использовала клише, позволявшие ей поддерживать образ врага, чертами которого были образование, симпатии к Западу, пренебрежение к православной церкви, критика властей, определенная национальность. Смирнова потакала темным инстинктам, разжигала ненависть к иноверцам и интеллигентам и вносила свой вклад в радикализацию взглядов читателей.
«новое время», «речь», смирнова (сазонова), розанов, мережковский, аггеев, газетный фельетон, адресат
Короткий адрес: https://sciup.org/149143527
IDR: 149143527 | DOI: 10.54770/20729316-2023-2-88
Текст научной статьи "Прямое искажение слов цитируемого писателя.": о двух фельетонах С. Смирновой
“Novoye vremya”; “Rech”; Smirnova (Sazonova); Rozanov; Merezhkovsky; Aggeev; newspaper feuilleton; recipient.
Когда речь заходит о спорах между Д.С. Мережковским и В.В. Розановым, обсуждаемые ими проблемы рассматриваются в поле «высокой» культуры с присущими ей языком, образностью и аргументацией. При по- гружении их публикаций в газетную полемику той поры возникает иная оптика, позволяющая видеть, насколько упрощенно воспринимались и прямолинейно транслировались их искания в том слое культуры, который принято называть низовым.
22 ноября (5 декабря) 1909 г. в газете «Новое время» был напечатан фельетон постоянного автора газеты Софьи Ивановны Смирновой (Сазоновой) «Выброшенная за борт» [Смирнова 1909а, 2–3]. Он появился через три дня после выхода в свет в той же газете публикации Розанова «Погребатели России» [Розанов 1909b, 3–4], посвященной статье Мережковского «Земля во рту» [Мережковский 1909а, 2]. В своем фельетоне Смирнова упомянула эту статью, как и другую недавнюю публикацию Мережковского «Свинья-матушка», напечатанную в «Речи» 1 (14) ноября 1909 г. [Мережковский 1909b, 3]. Розанов и по поводу нее выступил в «Новом времени» 4 (17) ноября 1909 г. [Розанов 1909а, 3]. Таким образом, на протяжении трех недель состоялись две публикации Мережковского в «Речи», на которые трижды откликнулось «Новое время». Смирновой ответил протоиерей К. Аггеев, заметка которого «За бортом правды» была опубликована в «Речи» через три дня после ее фельетона [Аггеев 1909, 2]. 27 ноября (10 декабря) 1909 г. Смирнова напечатала еще один материал, направленный теперь и против Мережковского, и против Аггеева [Смирнова 1909b, 3–4]. Совершенно очевидно, что такой обмен полемическими ударами был не случаен.
Можно предположить, что в какой-то мере полемику с Розановым спровоцировал сам Мережковский. В эти годы он был постоянным автором газеты «Речь». Сохранились его письма к И.В. Гессену [РГАЛИ. Ф. 1666. Оп. 1. Ед. хр. 561], свидетельствующие о переговорах относительно публикации его материалов. В течение 1908–1909 гг. он напечатал в «Речи» более двадцати статей [Федотова 2021, 46–47], поводом для которых, как правило, становились книжные новинки или газетные фельетоны, дающие возможность высказаться на актуальные темы. В случае со статьей «Свинья-матушка» это был «Дневник» А.В. Никитенко, печатавшийся в «Русской старине» еще в 1889–1892 гг., а затем дважды переиздававшийся. Мережковский собирался назвать свою статью о нем «Рабья Жизнь» [Лавров 2021, 116].
В ее первой главке он говорил о публикации В. Варварина (В.В. Розанова) «Памятник императору Александру III», в которой монумент работы кн. П. Трубецкого сравнивался с памятником Петру I: «Зад, главное, какой зад у коня! Вы замечали художественный вкус у русских, у самых что ни на есть аристократических русских людей, приделывать для чего-то кучерам чудовищные зады, кладя под кафтан целую подушку? – Что за идеи, объясните! Но, должно быть, какая-то историческая тенденция, “мировой” вкус, что ли?..» [Варварин 1909, 2]. Памятник вызывал у зрителей противоречивые чувства, но Варварин усмотрел в нем «единственный в мире по всем подробностям, по всем частностям <…> именно наш русский монумент. И хулителям его, непонимающим хулителям, ответим то же, что простой Пушкин ответил на “великолепные” рассуждения Чаадаева: “Нам другой
Руси не надо, ни другой истории”» [Варварин 1909, 2]. Используя унизительный образ «чудовищного зада», Мережковский поставил вопрос о том, «как мы дошли до этого?» [Мережковский 1909b, 3]. Ответ на него он нашел в «Дневнике» Никитенко. Опираясь на этот текст, а в статье около 150 цитат, он писал о рабьей жизни Никитенко, увидевшего в окружающей его русской жизни исключительно рабское и свинское существование.
Розанов откликнулся на эту статью в «Полемических заметках», прежде всего, потому, что в ней речь шла о нем самом. «Некий писатель, обсуждая памятник Александру III Трубецкого, – писал Розанов, – сравнил круп лошади, на которой сидит царь, да и всю фигуру лошади, – со “свиньею”. И вместе сказал, что лошадь под царем знаменует Россию. Это сравнение и чтение известного “Дневника” Никитенко, где описываются события трех царствований, внушили Д.С. Мережковскому грустные размышления, которые он выразил в статье “Матушка свинья”. Это – наша Россия, “полная свинства”. Конечно, все это – так, и в грусти Никитенко и Мережковского много правды, <…> Но знает ли Мережковский, что изображено на монетах Элевзина, – единственных, какие дошли до нас, т.е. на всех: свинья с одной стороны, над нею инициал имени города E∆ΕΥ, а на другой – Церера, едущая в колеснице, запряженной крылатыми драконами!» [Розанов 1909а, 3]. Несмотря на неприязненный тон, Розанов довольно взвешенно говорил об отношении автора к русскому рабству и свинству и завершал статью словами: «Само собою разумеется, однако, что “навозу” нельзя давать дорастать до краев, что его надо убирать; но, убирая, нельзя доцарапываться до “крови”, <…> Вдруг все умрет, похолодеет, увянет. И не станет бессмертия души; не станет загробного существования, зашатается совесть, затоскует, страшно затоскует человек, по крайней мере русский человек. Не станет Элевзина. Станет “Париж № 2”. Не надо. Страшно» [Розанов 1909а, 3].
Статья Мережковского «Земля во рту» была посвящена мысли Вяч. Иванова о миссии славянства нести «некий светоч» и о «жажде» русских к «саморазрушению». Мережковский не стал анализировать «русскую идею» в изложении Вяч. Иванова [Иванов 2018, 57], а поставил вопрос о преодолении воли «к нисхождению», к «саморазрушению» для обретения свободы русской церкви и человека. Розанов откликнулся на эту статью фельетоном «Погребатели России», в котором сравнил рассуждения Мережковского с диалогом Смердякова и Марьи Кондратьевны, иронически снижая поставленные автором проблемы: «Но до чего гениально! Вообразите. – “Земля во рту” написано Мережковским по поводу огорчения двумя фактами: 1) Воздухоплавание начали в Европе, а не у нас. У нас генерал Кованько. 2) В Испании одного Феррера казнили, а вся Европа закричала. У нас ежедневно вешают, а все молчат» [Розанов 1909b, 3]. И Мережковский, и Розанов в этом газетном диалоге оставались верными своим темам. Мережковский писал о причинах рабства народа, которое видел в рабстве церкви, и призывал к ее освобождению от гнета самодержавия. Розанов полагал, что и свинство, и святость одинаково присущи русскому народу, но именно в его глубинах хранится религиозная правда, которая давно потеряна в Европе. «С глубоким инстинктом народ наш бережет свою “нечистоту” от всяких культурных чисток, помня, что звезда Востока остановилась над коровьими яслями и что вообще “навоз” человечества как-то таинственно связан со всем священным и теплым, чем живет и греется человек» [Розанов 1909а, 3].
Вступая в полемику Мережковского и Розанова, Смирнова действовала, как «нововременка», намеренно цепляясь за слова, повышая градус и превращая полемику в склоку. Исследователи справедливо писали, что «Новое время» имело «свою систему “сигналов” – острых, немногочисленных, повторяющихся» [Соловьева, Шитова 2017, 48], и Смирнова посылала их читателю: обозначала справедливость позиции «своего» (Розанова), неправомерность позиции «чужого» (Мережковского), выражающего, к тому же, точку зрения неких «еврейских газет». «Вообще не следовало бы писать о христианстве в еврейских газетах, которые ведут с ним старую, вековую борьбу и, где не могут нанести ему открытого удара, подкапываются под него тайно» [Смирнова 1909а, 2]. В ее публикации есть и более сильные выражения, свидетельствующие о задаче противопоставить позицию патриотов тем, кто иногда «возвращается из-за границы в Россию» и находит в ней «все заплеванное, заплюганное, точно мухами засиженное, пришибленное, ползучее, бескрылое» [Смирнова 1909а, 2]. В фельетоне Смирновой нет анализа статей Мережковского, не освещена в нем и точка зрения Розанова. Акцент сделан на том, что святую Русь намеренно унижают перед просвещенным Западом и «несутся из еврейских газет исступленные вопли русских писателей: “Всемирно-исторический зад!.. Оплеванная, засиженная, пришибленная, ползучая, бескрылая”…» [Смирнова 1909а, 3]. В полемическом задоре, а фельетон написан эмоционально, энергично, Смирнова приписала Мережковскому слова, принадлежащие Варварину: «Его поразило, что у лошади такой необыкновенный, колоссальный зад. <…> Это вовсе не лошадь, а исторический зад России. Дальше еще лучше. Оказывается, что у России, кроме зада, ничего нет» [Смирнова 1909а, 2]. Статьи Мережковского она охарактеризовала, как «кладбищенскую литературу», а его самого – как писателя, впервые в истории назвавшего свою родину «исторической падалью» [Смирнова 1909а, 2].
25 ноября (8 декабря) 1909 г. на этот фельетон откликнулся в газете «Речь» один из учредителей и активных участников Петербургского Религиозно-философского общества протоиерей К. Аггеев. Он сопоставил цитаты из статей Варварина и Мережковского и указал Смирновой на использование недопустимого приема: «Что же делает г-жа Смирнова, автор статьи “Выброшенная за борт”?! Да просто-напросто приписывает приведенные выше слова г. Варварина Д.С. Мережковскому, начиная опровергать его – не злая ли тут ирония?! – словами В.В. Розанова!..» [Аггеев 1909, 2]. Смирнова не догадывалась, что под именем Варварина скрывается постоянный автор «Нового времени» [Панфилов, Гучков 2007, 680], и не распознала тонкую игру оппонентов: в статье «Свинья-матушка» Мережковский намеренно не раскрывал псевдоним Розанова, а он в «Полемических заметках» называл сам себя «некий писатель». Аггеев указал, что в фельетоне Смирновой есть «прямое искажение слов цитируемого писателя», и уклонился от обсуждения вопроса о том, можно ли говорить о христианстве в «еврейских газетах» [Аггеев 1909, 2].
Через два дня в «Новом времени» был напечатан фельетон Смирновой «Еще два слова о Д.С. Мережковском» [Смирнова 1909b, 3–4]. Он начинался такими словами: «Извиняюсь перед г. Мережковским: я кругом виновата перед ним. Я написала, что всемирно-исторический зад России открыт им. Это неправда. Первый открыл его г. Варварин в “Русском слове”, а г. Мережковский только развил эту мысль, посвятив ей два фельетона» [Смирнова 1909b, 3]. Упомянув «православного батюшку» из газеты «Речь», Смирнова объясняла свою ошибку тем, что «в статьях г. Мережковского столько чужих слов, так много разных цитат, что перестаешь, наконец, различать, что именно принадлежит ему и что другим» [Смирнова 1909b, 3]. Но целью публикации были, конечно, не извинения. Смирнова вновь писала о ненависти Мережковского к «старой московской Руси», а в подтверждение своих слов процитировала его статью годичной давности «Красная шапочка», напечатанную одновременно в «Речи» [Мережковский 1908а, 2] и в сокращенной редакции – в «Последних новостях» [Мережковский 1908b, 3]. Тогда эта статья стала предметом горячих обсуждений [Струве 1908, 2–3; Трубецкой 1908, 3–13; Котляревский 1908, 42–46], прежде всего, из-за хлестких слов автора: «…если быть русским значит быть рабом, то я не хочу быть русским» [Мережковский 1908а, 2]. «Г. Мережковский враг государственности, – завершала Смирнова свою публикацию, – и думает, что русская интеллигенция в огромной массе своей с ним в этом согласна, что мечта о государственной мощи России совсем не прельщает ее. “Кажется, лучше пойдет она к черту в лапы, писал он, чем в такую Россию”. Вот как далеко готовы идти наши интеллигенты…» [Смирнова 1909b, 4].
Читателям «Нового времени» были чужды тонкости и нюансы, которые можно было обнаружить в статьях Мережковского, и Смирнова не пыталась их разъяснить, наоборот, иронически сослалась на отсутствие у нее текста: «У меня не было под рукой его фельетона, из которого я привела не чужие, а его подлинные слова, <…> и я не помнила точно начала его статьи, т.е. кто именно первый начал поносить Россию, Дмитрий Сергеевич Мережковский или г. Варварин из “Русского слова”» [Смирнова 1909b, 3].
Фельетоны Смирновой производят впечатление публикаций, принадлежащих недостаточно образованному и предвзятому автору, не способному разобраться в том, что написано. Однако ее литературная репутация, сложившаяся к тому времени, противоречит такой оценке. Ее литературное дарование высоко ценили Н. Лесков, М. Салтыков-Щедрин, С.А. Венгеров, ее беллетристика печаталась в «Отечественных записках», а А.Г. Достоевская обращалась к ней с просьбой о биографическом очерке для юбилейного собрания сочинений Ф.М. Достоевского. Думается, что мы имеем дело с сознательной установкой Смирновой, объясняемой условиями функционирования «Нового времени» и ожиданиями определенной части его читателей. Конечно, дело было не в ее незаинтересованности тем, что писал Мережковский: Смирнова выступала как представитель корпорации «Новое время», ведущей борьбу с враждебным органом печати, и как выразитель мнения одного из двух непримиримых лагерей. Линия размежевания проведена ею между теми, кто иногда «возвращается из-за границы» [Смирнова 1909а, 2], и «той ничтожной <…> горсточкой русской интеллигенции, которая еще верит в Россию» [Смирнова 1909b, 4].
Газетная полемика между Мережковским и Розановым в ноябре 1909 г. была лишь небольшим сюжетом в их многолетнем диалоге, начавшемся еще в начале века и не завершившемся даже после смерти Розанова: его имя и цитаты из его книг регулярно встречаются в религиозно-философских эссе Мережковского периода эмиграции. Обсуждение ими культуры, религии, пола, Ветхого Завета, святой плоти, восточных мистических учений и проч. было нетривиальным, отражало особенности развития идей каждого из них, хотя нередко осложнялось личными столкновениями. С тех пор, как в начале века Мережковский предсказал Розанову, что «будут еще великие чудеса» [Записные книжки и письма… 1993, 27], они прошли этапы взаимного притяжения и отталкивания. В откликах Розанова тех лет ощутима заинтересованность в том, что говорит Мережковский. Несмотря на несогласие с ним, Розанов вел полемику уважительно, приводил убедительные аргументы, излагал их образно, сложно, иронично. Но когда в их диалог, наполненный взаимными отсылками и понятными им обоим смыслами, включилась Смирнова, она была обречена на то, чтобы редуцировать и упрощать их для читателей «Нового времени». И это понятно: то, что принадлежало к сфере «высокой» литературы, обычно обсуждалось в кружках и собраниях, публиковалось в художественных журналах с узким кругом подписчиков, по условиям времени стало печататься в газете наряду с телеграммами и объявлениями.
Не случайно В. Буренин, обсуждая с А. Сувориным реорганизацию «Нового времени» в письме от 2 сентября 1880 г., писал о публике: «Раз ей объявят: будет издаваться газета Сув<ориным>, Бур<ениным>, Геем, т.е. теми же лицами, что и в “Новом Времени”, будет стоить эта газета 6 рублей, – раз это объявят публике, уверяю вас, что тысячи две “рассудительных” ослов из нее сейчас размышляет так: к чему же мне 16 рублей платить, коли я могу за 6 получить телеграммы, Сувор<ина> и проч.» [РГАЛИ. Ф. 459. Оп. 1. Ед. хр. 522. Л. 23 об.]. Так что Смирнова хорошо знала образ мыслей своего читателя, объясняя ему искания образованной публики просто и доступно, сводя сложное к банальному и прямолинейному. Понимая это, Розанов оставлял для себя возможность говорить разными «голосами», как Варварин в «Русском слове» и Розанов в «Новом времени», да и то зачастую слышал от Суворина требования писать проще и яснее [Письма А.С. Суворина к В.В. Розанову 1913, 149]. Мережковский, в эти годы только осваивавший жанр фельетона, способ общения с обычной публикой найти не сумел. Переводя сказанное им на понятный язык, Смирнова использовала клише, которые читатель «Нового времени» легко опознавал: образованные господа, избалованные жизнью за границей; извечная борьба Запада с Россией; очернение народа; дискредитация православия; газеты, созданные евреями. В своих фельетонах она умело эксплуатировала значимые для читателя «Нового времени» «сигналы» и очерчивала круг «своих»: М.Д. Скобелев, легенда о котором была создана самим Сувориным [Соловьева, Шитова 2017, 55–60], герои Цусимы, капитан «Адмирала Нахимова» А.А. Родионов, убитый в Гельсинфорсе генерал-губернатор Н.И. Бобриков и др. Именно им, по мысли Смирновой, противопоставили себя Мережковский и газета, в которой он печатался.
Мережковский сам не стал отвечать Смирновой. В его защиту выступил К. Аггеев. Думается, что автор для ответной заметки был выбран редакцией намеренно. Его сан православного священника должен был восприниматься как убедительный аргумент для читателя, которому сказали, что в еврейской газете есть специальные церковные репортеры, пишущие против православия [Смирнова 1909а, 2]. Но Аггеев, в сущности, обошел непристойные антисемитские выпады Смирновой и таким образом не оставил поводов для дальнейших нападок.
Фельетоны Смирновой дают возможность судить и о предпочтениях той части публики, которая была ее адресатом. Видимо, речь идет о низовом слое читателей с устойчивым образом врага, отличительными чертами которого являются образование, симпатии к Западу, пренебрежение к православной церкви, критика властей, иноверцы. Разумеется, у «Нового времени» были и другие читатели, к которым обращался, например, Розанов. Но его публикации лишь частично отвечали системе «сигналов» газеты, а фельетоны Смирновой – в полной мере. Потакая темным инстинктам, разжигая ненависть к иноверцам и интеллигентам, Смирнова вносила свой вклад в радикализацию настроений читателей и их разобщение.
Список литературы "Прямое искажение слов цитируемого писателя.": о двух фельетонах С. Смирновой
- Аггеев К. За бортом правды // Речь. 1909. № 324. 25 ноября (8 декабря). С. 2.
- Варварин В. Памятник императору Александру III // Русское слово. 1909. № 128. 6 июня. С. 2.
- Записные книжки и письма Д.С. Мережковского. Письма / Публ. Е. Андрущенко, Л. Фризмана // Русская речь. 1993. № 5. С. 25–40.
- Иванов Вяч. По звездам. Опыты философские, эстетические и критические. Статьи и афоризмы. Кн. II. Примечания / Отв. ред. тома К.А. Кумпан. СПб.: Пушкинский Дом, 2018. 672 с.
- Котляревский С. Два миросозерцания (По поводу статей Д.С. Мережковского и П.Б. Струве) // Московский еженедельник. 1908. № 11. 11 марта. С. 42–46.
- Лавров А.В. Историограф и романист-историограф. Письма Д.С. Мережковского к П.Е. Щеголеву // Литературный факт. 2021. № 1(19). С. 108–132.
- (а) Мережковский Д. Земля во рту // Речь. 1909. № 314. 15 (28) ноября. С. 2.
- (b) Мережковский Д. Свинья-матушка // Речь. 1909. № 300. 1 (14) ноября. С. 3.
- (а) Мережковский Д. Красная шапочка // Речь. 1908. № 47. 24 февраля (8 марта). С. 2.
- (b) Мережковский Д. Свобода больше родины // Последние новости. 1908. № 41. 8 марта. С. 3.
- Панфилов А.Ю., Гучков С.М. Смирнова, Смирнова-Сазонова // Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. Т. 5. П – С / гл. ред. П.А. Николаев. М.: Большая Российская энциклопедия, 2007. С. 678–680.
- Письма А.С. Суворина к В.В. Розанову. СПб.: Тип. Т-ва А.С. Суворина «Новое время», 1913. 183 с.
- (a) Розанов В. Полемические заметки // Новое время. 1909. № 12087. 4(17) ноября. С. 3.
- (b) Розанов В. Погребатели России // Новое время. 1909. № 12102. 19 ноября (2 декабря). С. 3–4.
- (a) Смирнова С. Выброшенная за борт // Новое время. 1909. № 12105. 22 ноября (5 декабря). С. 2–3.
- (b) Смирнова С. Еще два слова о Д.С. Мережковском // Новое время. 1909. № 12110. 27 ноября (10 декабря). С. 3–4.
- Соловьева И., Шитова В. А.С. Суворин: портрет на фоне газеты. М.: Гос. центр. театральный музей им. А.А. Бахрушина; издательская группа «NAVONA», 2017. 125 с.
- Струве П. Ответ Д.С. Мережковскому // Речь. 1908. № 47. 24 февраля (8 марта). С. 2–3.
- Трубецкой Евгений, кн. Великая Россия (По поводу спора П.Б. Струве и Д.С. Мережковского) // Московский еженедельник. 1908. № 11. 11 марта. С. 3–13.
- Федотова С.В. «Любопытный малый»: письма З.Н. Гиппиус и Д.С. Мережковского к К.И. Чуковскому (1907–1920) // Литературный факт. 2021. № 2(20). С. 31–81.