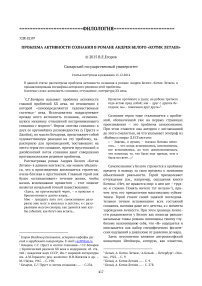Проблема активности сознания в романе Андрея Белого «Котик Летаев»
Бесплатный доступ
В данной статье рассмотрена проблема активности сознания в романе Андрея Белого «Котик Летаев» и проанализирована специфика авторского решения этой проблемы.
Активность сознания, отчуждение, литература xx века
Короткий адрес: https://sciup.org/148102082
IDR: 148102082 | УДК: 82.09
Текст научной статьи Проблема активности сознания в романе Андрея Белого «Котик Летаев»
° С.Г.Бочаров называет проблему активности главной проблемой XX века, по отношению к которой «самоопределяются художественные системы» 1 века. Исследователь подразумевает прежде всего активность сознания, «изменившуюся механику отношений воспринимающего сознания с миром» 2 . Форма «потока сознания» в двух ее крупнейших разновидностях (у Пруста и Джойса), по мысли Бочарова, представляет собой художественную реакцию на эту проблему, характерную для произведений, поставивших на место героя его сознание, причем прустовский и джойсовский поток сознания дают совершенно противоположное решение проблемы.
Рассматривая роман Андрея Белого «Котик Летаев» в данном контексте, мы можем убедиться, что в произведении воплощается стратегия, очень близкая к прустовской. Главный герой как будто «останавливает» течение жизни, чтобы начать вспоминание прожитого – этот момент является начальной точкой повествования:
«Здесь, на крутосекущей черте, – в прошлое я бросаю немые и долгие взоры...
Мне – тридцать пять лет: самосознание разорвало мне мозг и кинулось в детство; я с разорванным мозгом смотрю, как дымятся мне клубы событий; как бегут они вспять...
Прошлое протянуто в душу; на рубеже третьего года встаю пред собой; мы – друг с другом беседуем; мы – понимаем друг друга» 3 .
Сознание героя тоже сталкивается с проблемой, обозначенной уже на первых страницах произведения – это проблема самопознания. При этом ставится она автором с неслыханной до этого смелостью, на что указывает эпиграф из «Войны и мира» Л.Н.Толстого:
« – Знаешь, я думаю, – сказала Наташа шепотом... – что когда вспоминаешь, вспоминаешь, все вспоминаешь, до того довспоминаешься, что помнишь то, что было еще прежде, чем я была на свете...» 4
Самопознание у Белого стремится к крайнему пределу и выходу за свои пределы к познанию объективной реальности. Герой преодолевает отчуждение (см., например, ощущения юного Котика: «Нет, не нравится мир: в нем все – трудно и сложно. Понять ничего тут нельзя» 5 ), причем путь его преодоления максимально субъективен. Герой ставит своей задачей последовательное точное вспоминание всех состояний сознания, начиная даже не с детства, а с момента зарождения личности. При этом границы личности раздвигаются у Белого как никогда раньше: начальные главы романа посвящены такому глубокому вспоминанию себя, что «Я» ощущается и описывается как набор специфических физических ощущений в диапазоне от давления до жара.
Здесь несомненно влияние антропософской концепции Штейнера, которую, как известно, разделял Белый и которая отразилась и в других его произведениях. Саму антропософию Штейнер определял как «познание, осуществляемое в человеке его высшим «Я», «научное исследование духовного мира», «путь познания, стремящийся привести духовное в человеке к духовному во Вселенной… [возникающая в человеке] как потребность сердца и чувства» (курсив наш)6. Человек в антропософской концепции является телом, душой и духом; духом управляет закон перевоплощения7. Котик Летаев «расширяет» свою память, стремясь выйти за пределы одиночного воплощения собственного духа.
Непроизвольному процессу постижения всей глубины и изменчивости своей и чужой личности у Пруста Белый противопоставляет намеренное, направляемое духовным учением движение героя вглубь. Мир Пруста, неспеша, выплывает из дремоты главного героя, рождается из положений его спящего тела и оформляется в неожиданных поворотах пробуждающейся мысли. Мир «Котика Летаева» весь предопределен решающей первой фразой повествователя, повернувшей его взгляд с «крутосекущей черты» далеко назад.
При общем сходстве того пути, что проходит познающая личность у обоих авторов, открытия, поджидающие героев, и само усилие по проникновению в непознанное различны. Так, напряжение Марселя по постижению иррационального обрастает плотью точных понятий, тонких эмоций, изысканных метафор; его призвание – стать писателем, облечь опыт в слово, и призвание это находит Марселя, как это ни удивительно, в 7-м томе «его» произведения. Герой же Андрея Белого скорее слову не доверяет. Приведем отрывок из финальной главы «Распятие».
«Мне бессказочно все в этот год, но я переполнен какой-то невнятною правдою; провозгласи ее я – и огромное Слово опустится: в слово мое; и - новые блески зажгутся; и ко мне склоненные старики – папа мой, Полиевкт Андреич Дадар-ченко, Федор Иваныч Буслаев, Сергей Алексеевич Усов, мой крестный, – огромную правду мою понесут по мирам: затрясут очкастыми головами; и – рявкнут:
– "Воистину так это, Котик!"
Но – нем: –
Он – веет в лицо мое.
Чем?» 8
Исходная ситуация познающего субъекта в данной сцене и в хрестоматийной сцене с пирожным Мадлен у Пруста оказывается на удивление схожа, и ситуация эта чуть ли не физического плана: в той точке, где Марсель чувствует «широко разлившееся» по телу «сладостное ощущение», Котик Летаев оказывается «переполнен невнятною правдой». Абстрактное ощущение требует конкретного рационального истолкования – и герой Пруста, подбирая вербальные аналоги своих переживаний, подходит к решению этой проблемы максимально близко, тогда как Котик Летаев терпит на этом пути поражение (очевидно отсылающее к тютчевскому «Silentium»). «Огромное Слово» не «спускается» в вещественное слово героя. Первоначальные физические ощущения (жар Правды в сердце) претворяются в субстанцию той же самой природы – в жест (ладони, подымающие воздух) – и сопровождаются ими же (веяние ветра, «сладость» вкуса). Еще одна попытка словесного истолкования – вопрос, адресованный героем самому себе – разрешается молчанием. Коммуникация так и не состоялась на новом уровне, но это коммуникативное поражение обращено Белым в победу: «невыразимое» остается в физическом плену – и поэтому говорит языком тела.
Отказ от вербальности в процессе познания истины принимает в романе и иные формы, например, интерес к знаку. В главе «Папа» юный Котик заворожен спиралью, которую рисует для него отец: «И чертит и вертит под носом моим карандашиком звенья спирали; и впечатлеет мне в душу; и точки моих впечатлений – дробятся; и риза мира колеблется» 9 . Обнаруженные же им в книгах отца математические знаки и вовсе ошеломляют своим значением:
«Вот, бывало, заря; вот – оконная рама; вот – я: бабушка, мама и я – мы живем своей жизнью; а папа врывается... из-за книжного шкафа; и – убегает обратно: к корешкам толстых томов, таящих в себе все какие-то гиероглифы: –
– дифференциал, интеграл!
– я их знал: до рождения!» 10 .
Однако невозможность словесного воплощения истины вовсе не принимает в повести всеобъемлющий характер. Подтвердим этот тезис на материале первых глав «Котика Летаева». Первейшие воспоминания себя герой нарекает «безобразными бредами», тем самым отрицая как рационально-вербальный, так и образный их характер. «Бреды» эти чисто физической природы: «небывалость, невыразимость лежания сознания в теле… какое-то набухание в никуда и ничто» (курсив наш)11. Вербализация их несколько условна, даже оксюморонна:
«Так бы я сгустил словом неизреченность восстания моей младенческой жизни: –
– боль сидения в органах; ощущения были ужасны; и – беспредметны […] – состояние натяжения ощущений; будто все-все-все ширилось: расширялось, душило; и начинало носиться в себе крылорогими тучами» (курсив наш) 12 .
В плотную стихию «бредового» воспоминания начинают просачиваться первые образы, или, словами Котика Летаев, «первое подобие образа наросло на без о бразии моих состояний» 13 . «Переживающим себя шаром» ощущает Котик Лета-ев; образ этот еще не освободился от власти физического: «переживающий себя ощущал лишь – «внутри»; ощущалися неодолимые дали: с периферии и к… центру» 14 . Характерное смешение чувственного, вербального и образного формирует следующий отрывок текста:
«Продолжаю обкладывать словом первейшие события жизни: –
– ощущение мне – змея: в нем – желание, чувство и мысль убегают в одно змееногое, громадное тело: Титана; Титан – душит меня; и сознание мое вырывается: вырвалось – нет его... –
– за исключением какого-то пункта, низверженного –
– в нуллионы Эонов! –
– осилить безмерное...
Он – не осиливал» 15
Первым полноценным образом, всплывающим в памяти Котика Летаева, оказывается образ старухи: «Безобразие строилось в образ: и – строился образ»16. Проследим этапы его построения – от примитивно-чувственного к многосложному живописному. Старуха эта «шаровая и жаровая», она «влипла» в героя и «набухает» в нем. Герой «наливался» старухой, «протяжение, натяжение в окружающем» оказывалось «откро- венно старушечьим». Кульминация построения образа содержит впервые возникающий портретный элемент:
«Я не знаю, когда это было, но я... подсмотрел ее: у себя за спиной, –
– когда она, описывая в пространстве дугу, рушилась мне прямо в спину: из ураганов красного мира, стреляя дождями карбункулов; выгнулась ее бело-каленая голова с жующим ртом и очень злыми глазами; я несся в пропасть; и надо мною утесами света и жара она ниспадала – мне в спину; и, ухвативши за спину, описывала со мною в пространствах, – колеса... –
– Сам я был колесом» 17 .
Окончательно сформированный образ нуждается в осмыслении, и здесь происходит даже что-то вроде прустовской работы: «Думаю, что "старуха" – какое-либо из вне-телесных моих состояний, не желающих принять "Я" и живущих: глухою, особою, стародавнею жизнью; эта жизнь прорастает порою: у впадающих в детство старух, сумасшедших; и носится по июльским ночам грозовыми зарницами» 18 .
Итак, словесному оформлению в данном отрывке текста у Белого предшествует целая чувственная и образная жизнь сознания; вербализация является необходимой задачей повествователя Котика Летаева, но в процессе познания она не занимает главенствующую позицию, уступая место более древним формам – телесным в широком смысле и живописно-образным. Если в романах Пруста слово это итог познавательного пути, то для Котика Летаева это только начало. В «Глоссолалии» и других работах Белый формулирует следующую мысль: между словом и явлением (или звуком и образом) есть изначальное соответствие. Поэтому, прислушиваясь к звучанию слова, всматриваясь в образ, который заключен в нем, познающий субъект из этой точки отправляет свое сознание по рельсам постижения мира к объективному, к Слову в высшем смысле, к истине.
Мы пришли к выводу, что в романе Андрея Белого «Котик Летаев» воплощена стратегия, утверждающая приоритет сознания над внешним фактом (по Бочарову, прустовская стратегия, противостоящая джойсовскому приоритету факта над сознанием). Котик Летаев, как и герой Пруста, отталкивается от элементов объективной действительности, прилагает усилие с целью прорваться к сути вещей. Однако герои Пруста и Белого преодолевают отчуждение от мира каче- ственно разными путями, хотя и приводящими к схожему результату. Для героя Белого оказываются важны не сводимые к словесной интерпретации чувства и образы, а слово является лишь отсылкой к объективной истине19.
19Егоров, В.Е. Модификации приема потока сознания в литературе ХХ века / В.Е.Егоров // Материалы XXXVII Самарской областной студенческой науч. конф., по-свящ. 50-летию полета в космос Ю.А.Гагарина и Году российской космонавтики. Ч. II. Гуманитарные науки / отв. ред. Ю.Л.Тарасов. – Самара: Изд-во «OOO «ИПК «Право», 2011. – С. 32 – 33; Егоров, В.Е.Специфичность приема потока сознания / В.Е.Егоров // Язык и проблемы коммуникации: материалы межд. студ. науч. конф., Самара, 11 мая 2011 года. – Самара: Изд-во «Универс групп», 2011. – 120 с.; Егоров, В.Е. Художественный потенциал формы потока сознания / В.Е.Егоров // Язык и репрезентация культурных кодов: материалы межд. науч. конф. молодых ученых, Самара, 11 – 12 мая 2012 г. – Самара: Изд-во «Самарский ун-т», 2012. – С. 213 – 215.
THE ACTIVITY OF CONSCIOUSNESS PROBLEM IN ANDREI BELY’S NOVEL «KOTIK LETAEV»
Список литературы Проблема активности сознания в романе Андрея Белого «Котик Летаев»
- Бочаров, С.Г. Пруст и «поток сознания»/С.Г.Бочаров//Критический реализм XX века и модернизм: сб. статей/Академия наук СССР, Ин-т мировой литературы им. А.М.Горького; ред. коллегия: Н.Н.Жегалов и др. -М.: Наука, 1967. -С. 198.
- Белый, А. Котик Летаев/А.Белый. -Петербург: «Эпоха», 1922. -С. 9.
- Унгер, К. Что такое антропософия -Режим доступа: http://www.anthroposophy.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=667
- Философская энциклопедия/общ. ред. В.Е.Кемеров. -М.: Изд-во "Панпринт", 1998. -453 с.
- Новейший философский словарь/сост. А.А.Грицанов. -Минск: «Книжный дом», 2003. 1280 с.
- Егоров, В.Е. Модификации приема потока сознания в литературе ХХ века/В.Е.Егоров//Материалы XXXVII Самарской областной студенческой науч. конф., посвящ. 50-летию полета в космос Ю.А.Гагарина и Году российской космонавтики. Ч. II. Гуманитарные науки/отв. ред. Ю.Л.Тарасов. -Самара: Изд-во «OOO «ИПК «Право», 2011. -С. 32 -33
- Егоров, В.Е.Специфичность приема потока сознания/В.Е.Егоров//Язык и проблемы коммуникации: материалы межд. студ. науч. конф., Самара, 11 мая 2011 года. -Самара: Изд-во «Универс групп», 2011. -120 с.
- Егоров, В.Е. Художественный потенциал формы потока сознания/В.Е.Егоров//Язык и репрезентация культурных кодов: материалы межд. науч. конф. молодых ученых, Самара, 11 -12 мая 2012 г. -Самара: Изд-во «Самарский ун-т», 2012. -С. 213 -215.