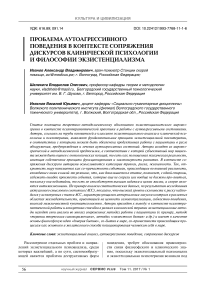Проблема аутоагрессивного поведения в контексте сопряжения дискурсов клинической психологии и философии экзистенциализма
Автор: Иванов Александр Владимирович, Шелекета Владислав Олегович, Ивахнов Василий Юрьевич
Журнал: Сервис plus @servis-plus
Рубрика: Культура и цивилизация
Статья в выпуске: 1 т.11, 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена теоретико-методологическому обоснованию экзистенциалистского мировоз- зрения в контексте психотерапевтической практики и работы с аутоагрессивными состояниями. Авторы, ссылаясь на труды основателей и классиков экзистенциального анализа и клинической пси- хологии и психотерапии, выявляют фундаментальные принципы экзистенциальной психотерапии, в соответствии с которыми может быть обеспечена продуктивная работа с пациентами в русле обнаружения, предупреждения и лечения аутоагрессивных состояний. Авторы исходят из мировоз- зренческой и методологической предпосылки, в соответствии с которой субъективный мир пациен- та может быть оценен с онтологических позиций, то есть как полноценная психическая реальность, имеющая собственные принципы функционирования и закономерности развития. В контексте со- пряжения дискурсов авторами осмысливаются категории тревоги, риска, жизненности. Так, от- крытость миру понимается как со-причастность событиям, происходящим во внешней реальности, вхождение с ними в какой-то резонанс, что, как доказывается в статье, позволяет, с одной стороны, избежать ошибок произвести события, которые еще не созрели или вообще не должны про-явиться, поскольку они небытийны, то есть не способствуют высшим задачам и целям жизни, а скорее явля- ются антижизненными. На примере анализа статистических данных, по результатам исследования актуального смыслового состояния (АСС), показано, что высокий уровень склонности к риску наблю- дался у испытуемых с типом АСС, характеризующимся интернальным локусом контроля в различных областях жизнедеятельности, ориентацией на ценности самоактуализации, гибкостью поведения, высокой межличностной чувствительностью. Авторы приходят к выводу: в контексте психотера- певтической работы и конкретных способов в рамках клинической терапии экзистенциальные мето- ды находят свои аналоги во многих современных методах работы с пациентами (к примеру, методе «терапии творческим самовыражением», методах «совместного бытия» и др.) и имеют в качестве основы философскую идею «доверия бытию», со-бытия в мире, со-причастности происходящим про- цессам как основного и желательного способа позиционирования человеком себя в мире.
Экзистенциальный анализ, аутоагрессивное поведение, сопряжение дискурсов
Короткий адрес: https://sciup.org/140210395
IDR: 140210395 | УДК: 616.89; | DOI: 10.22412/1993-7768-11-1-6
Текст научной статьи Проблема аутоагрессивного поведения в контексте сопряжения дискурсов клинической психологии и философии экзистенциализма
Рассмотрение отдельных проблем и направлений экзистенциального психоанализа, среди которых важнейшей, а по сути, системообразующей является проблема деструктивных форм поведения, требует обоснования правомерности связи философского и клинического знания, поскольку экзистенциальный психоанализ и экзистенциальная психотерапия возникли под определяющим влиянием дискурса философии экзистенциализма.
Рассмотрение заявленной проблемы в рамках понятийного аппарата психиатрических дисциплин выводит нас на различные дисциплины, находящиеся «на границе дискурсов», такие как, к примеру, так называемая феноменологическая психиатрия, которая показала саму возможность органичного переплетения философии и психиатрии и создания на основе такого переплетения некой философско-клинической теории. Она впервые обозначила основную проблему этой философско-клинической области – проблему психического опыта больного человека, а также природы патологической психологической реальности. Попытавшись отказаться от естественнонаучных критериев нормы и патологии и следуя «правилам» феноменологической редукции, представители феноменологической психиатрии постулировали реальность патологического опыта, наделив психическое заболевание онтологией. Окончательного оформления эта идея достигла в экзистенциальном анализе, в рамках которого психологическая [патологическая] реальность представала в онтологически-онти-ческом понимании как основное пространство философско-клинического исследования [3, c. 23]. Констатирование возможности подобного рода отношения к психологической реальности было, безусловно, чрезвычайно смелым шагом, поскольку размывало традиционные границы психиатрического дискурса и задавало новые.
Философия и психиатрия соприкасаются и вступают во взаимодействие прежде всего как философская теория и клиническая практика. Как утверждает О. Власова, именно эта инструментальная (операциональная) черта является наиболее значимой при понимании специфики философско-клинических направлений, при этом философия предстает как философская теория, психиатрия – одновременно и как медицинская теория, и как практика диагностики и лечения. Философская теория входит в клиническую практику, минуя жесткие схемы и четкие влияния. «Психиатры не столько следуют за идеями философов, сколько выбирают в их работах, выступлениях, семинарах и лекциях, в их речах то, что оказывается интуитивно близко им, и поэтому, возможно, их привлекают именно те идеи, которые философы формулируют на основании ощущений, изначально близких психиатрам, например, на основании переживания разрыва бытия, отчаянья, близости ничто и т.д» [3, с.
30]. Относительно же именно экзистенциальной психотерапии можно сослаться на идеи Х. Рутенбека, который отмечает, что экзистенциальный анализ вырастает из экзистенциальной философии и имеет с последней много общего. «Оба заинтересованы кризисом, – пишет он, – один – кризисом как характеристикой положения человека, другая – человеком-в-кризисе [3, с. 30–31].
Таким образом, мы выходим на исключительно философскую проблематику реальности (онтологичности) человеческих переживаний. Экзистенциальный анализ и в методологическом, и в теоретическом плане продолжает традиционную проблематику феноменологической психиатрии, при этом включая в область своего исследования, наряду с внутренними измерениями сознания, также окружающий пациента мир.
В пределах предпринятого рассмотрения нам важнее всего прикладное значение проводимого исследования. Так, нашей задачей было выявление в контексте психиатрической практики действенности методов экзистенциального анализа и терапии в случаях, связанных с так называемым «аутоагрессивным поведением».
В качестве теоретико-методологической посылки можно учесть следующее высказывание Л. Бинсвангера как одного из основателей экзистенциального анализа: «Мы также согласны с утверждением фон Икскюля о том, что: «Именно психическая инертность принимает существование единственно объективного мира (мы, психиатры, наивно называем его реальностью), как можно ближе подгоняя его под наш собственный внешний мир и расширяя во всех направлениях во времени и в пространстве». Однако фон Икскюль не замечает того факта, что у человека, в противоположность животному, есть и собственный мир, и объективный, общий для всех. Это было известно уже Гераклиту, который говорил, что в состоянии бодрствования у нас есть общий мир, но во время сна, как и в страсти, эмоциональных состояниях, чувственном вожделении и в опьянении, каждый из нас отворачивается от общего мира и поворачивается к своему собственному. Мы, психиатры, уделяем слишком много внимания отклонениям пациентов от жизни в том мире, который является общим для всех нас, вместо того, чтобы сосредоточиться прежде всего на собственном или частном мире пациентов, что первым на систематической основе стал делать Фрейд» [1, с. 9].
Затрагиваемая здесь проблема наиболее рельефно проступает, конечно же, в ситуации кризиса, на решение которого, собственно, и на- правлен экзистенциальный анализ, и для того чтобы еще раз обозначить свою мировоззренческую установку по отношению к психической реальности субъекта, Бинсвангер пишет: «Но, – очень верно замечает фон Вайцзеккер, – субъект – это не жестко привязанная собственность; кто-то постоянно вступает в права владения, чтобы распоряжаться им». В частности, отмечается, что в ситуации кризиса человек сталкивается с угрозой потери самого себя, а затем получает возможность снова обрести себя благодаря своей силе и гибкости. «Одновременно со смещением субъекта происходит и смена объекта, и хотя единство мира остается под вопросом, каждый субъект собирает, по крайней мере, свой внешний мир (Umwelt), объекты которого он связывает вместе в маленький универсум союза-монады» [1, c. 12].
Здесь мы подходим к очень важному, по нашему мнению, вопросу – психологического кризиса и различных форм аутоагрессивного поведения, которые необходимо рассмотреть в свете методологии сопряжения вышеозначенных дискурсов экзистенциалистического мировосприятия и клинической психологии.
Конечно, в данном примере и его анализе мы наблюдаем очевидные отзвуки классического фрейдовского психоанализа, концентрирующегося на интерпретации переживаний прошлого, но ключевым здесь является другое, а именно – тот способ, которым мы устанавливаем связь с прошлым, качество этой связи, а также возможность вписывания событий «внутренней жизни» человека в общую, единую, целостную канву событийности, в которой нет деления на внешнее и внутреннее.
Фобия всегда представляет собой попытку защиты, сохранения ограниченного, скудного «мира», тогда как тревога является выражением потери этой защиты, крушения «мира» и таким образом движения экзистенции к ничто, к невыносимому, всепоглощающему, «не прикрытому ужасу». Мы утверждаем, что в большей мере это агрессия, направленная на самого себя.
С использованием здесь категории фрейдовского психоанализа получим следующее: если данная система (человек) по разным причинам не обеспечивает качественное снижение напряжения и удовлетворение основного влечения, напряжение в организме постепенно нарастает, запуская механизмы в направлении поиска альтернативных способов разрядки. В частности, это может проявляться в поведенческой активности, направленной на саморазрушение, в основе которой лежит стремление к уходу от жизненных проблем, а вовсе не «подсознательное стремление к смерти» [12]. В категориях экзистенциального анализа и экзистенциального мировосприятия в целом речь может идти о недостатке жизненности как адекватной ситуации способности встраивания сознания и поведения в происходящие вокруг процессы. А это в свою очередь увязано с такой категорией психопатологии, как аутоагрессия.
Аутоагрессия в различных своих формах – от формирования различных зависимостей (наркомания, алкоголизм, сексуальная неразборчи- вость, склонность к занятию опасными видами спорта или «рискованными» профессиями) [6] до попыток самоубийства по типу «короткого замыкания» в том случае, если «напряжение» сможет преодолеть барьеры страха и/или боли – в данном случае может быть одной из наиболее эффективных моделей разрядки напряжения. Таким образом, она представляет собой, в определенном смысле, способ интегрирования в целостность ситуации, но за счет создания ситуаций, которые в рамках экзистенциализма называются «пограничными»: опасность смерти, болезнь и пр., то есть, по сути, все, что связано с риском.
Интерес вызывает вопрос о взаимосвязи склонности к риску и типа актуального смыслового состояния личности. Риск есть в первую очередь противоречие целостности жизни. При этом можно опираться на эмпирические данные социологических исследований. Актуальным в данной связи представляется исследование уровня склонности человека к риску, проведенное молодыми кемеровскими учеными [10]. Предметом здесь выступает взаимосвязь уровня склонности к риску и типа актуального смыслового состояния.
В качестве метода изучения уровня склонности к риску ими был использован опросник «Исследование склонности к риску» А.Г. Шмелева, представляющий собой набор утверждений, с которыми испытуемый должен либо согласиться, либо нет [9].
С целью изучения смысложизненных ориентаций испытуемых ими был использован тест «СЖО», разработанный Д.А. Леонтьевым, ре-концептуализированный для диагностики актуальных смысловых состояний А.В. Серым и А.В. Юпитовым [11].
Исследование проводилось среди студентов различных городов России в режиме прямого опроса, а также интернет-анкетирования. Общий объем выборки составил 100 человек в возрасте 17–22 года обоих полов.
В результате проведённого теста «СЖО» были выделены группы, в которые вошли 90% испытуемых в зависимости от типа актуального смыслового состояния (АСС).
Проанализировав данные испытуемых этих групп, полученные при опросе «Склонность к риску», нами были получены следующие результаты.
Наиболее склонными к риску оказались респонденты, входящие в группы 3 и 4. У предста- вителей групп 1 и 2 наблюдался средний уровень склонности к риску.
Таким образом, наиболее склонными к риску оказались испытуемые с типом АСС, характеризующим человека как прожектера, планы которого не имеют реальной опоры в настоящем и не подкрепляются личной ответственностью за их реализацию. Ориентировка смыслового локуса исключительно на цели выполняет функцию защиты от реальных проблем (часто посредством ухода в иллюзорно-компенсаторную реальность) в форме рационализации явлений объективной реальности и отреагировании вовне по внешне-обвиняющему типу.
Кроме того, высокий уровень склонности к риску наблюдался у испытуемых с типом АСС, характеризующимся интернальным локусом контроля в различных областях жизнедеятельности, ориентацией на ценности самоактуализации, гибкостью поведения, высокой межличностной чувствительностью. Критический анализ своих мотивов, потребностей и чувств позволяет человеку с данным типом АСС вести себя естественно, раскованно, уважать себя и принимать таким, как есть, вне зависимости от оценки своих достоинств и недостатков, воспринимать природу человека и действительность в целом без антагонистических и непреодолимых дихотомий.
Соавтором представляемой статьи было проведено исследование аутоагрессии как одного из наиболее универсальных моментов в непрерывной цепи физиологических реакций человеческого организма в ответ на большие и маленькие (материальные и духовные, внешние и внутренние) проблемы, связанные с жизнью как таковой.
Объектом исследований были 112 практически здоровых молодых людей мужского и женского пола в возрасте от 17 до 25 лет, проходивших медицинский осмотр для приема на работу, на право управления автотранспортом и для поступления в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования (контрольная группа), а также 99 человек с различными формами аутоагрессивного поведения того же возраста. В качестве методик исследования были использованы клиническая беседа, оригинальный опросник, состоящий из 9 шкал (Культурные и семейные ценности, Нравственные основы, Обращённость к будущему, Поиск ощущений (в т.ч. риска), Привязанности, Зависимости и увлечения, Религиозность, Самооценка здоровья, Тревоги, Лжи), а также целостный анализ выбранной группы.
Обследование показало, что ведущими факторами индивидуального риска аутоагрессивного поведения молодых людей, помимо прочего, являются индивидуальные особенности личности. Психологически это может проявляться наличием противоречивого сочетания высокого уровня притязаний с неуверенностью в себе (62%), высокой активности с быстрой истоща-емостью (38%), что при неблагоприятных социальных условиях может служить почвой для развития аутоагрессивного поведения [6, c. 140]. Мы можем утверждать, что аутоагрессивное поведение есть вектор психотелесного развития, направленный не только против целостности бытия человека, но и против жизни как таковой.
Вместе с тем, аутоагрессия, как, впрочем, и агрессия в целом, может защищать внутреннюю психологическую целостность, выступая как защитный механизм поведения. Однако существуют следующие три варианта или степени ее необходимости: а) она необходима; б) она бесполезна; в) она вредна. Мы в рамках нашего исследования рассматриваем аутоагрессию в клинико-поведенческих проявлениях как последнюю форму выражения внутреннего сценария самокритики, самоизменения, и в этом смысле она может выступать для психики как раковые клетки, которые, как утверждает современная клиническая психотерапия, есть соматизирован-ное выражение психоза.
Основу жизненного сценария составляют предписания, полученные ребенком чаще – в невербальной форме от биологических родителей или лиц, их заменяющих. Другой важный источник деструктивных жизненных сценариев, как было показано выше, – попасть под влияние коллективных форм поведения и психической деятельности. Одно из них – «не живи!» – составляет основу трагического сценария жизни, следуя которому, ребенок во взрослой жизни (пока не осознает это сам от скорбей в жизненных коллизиях, возможно – с помощью психиатра или психотерапевта) может выбрать сценарную расплату в виде: неестественной смерти – быть убитым, покончить жизнь самоубийством, может стать жертвой несчастного случая, психической или соматической болезни или, что чаще всего – не вполне реализовать свои возможности как человека. Здесь, конечно же, ключевым и характеризующим вышеприведенное исследование может стать экзистенциальное понятие тревоги. Другое понятие – это отсутствие четких смысложизненных установок и искажение системы ценностей.
Таким образом, интегрирующий принцип целостности человека связан с глубинными смысложизненными установками, основанными на аутентичном образе себя, предохраняющем единое психотелесное бытие человека от распада и аутоагрессии, когда (если рассуждать в терминах теории самоорганизации динамических систем) система под названием человек начинает работать против самой себя. Состояние хаоса приводит к энтропии. Аутоагрессия может выступать в качестве некоего «буфера» – как псевдодеятельность. Данные жизненные сценарии могут быть предотвращены с помощью моделирования позитивных моделей поведения, поскольку чем больше у системы «человек» подобных моделей, тем более адаптивна такая система, тем больше возможностей у нее для творческой переработки поступающей информации и меньше опасности саморазрушения.
Итак, «какое место призван занять экзистенциальный анализ в общей картине психиатрических исследований и изысканий? Экзистенциальный анализ не относится ни к психопатологии, ни к клиническим исследованиям, ни к какому-либо виду объективного изучения. Его результаты в первую очередь должны быть переведены на язык психопатологии и соотнесены в свойственной ей манере с психической системой или даже с психическим аппаратом, чтобы быть спроецированными на физический организм» [1, c. 38]. Этого нельзя добиться без тотальной, все упрощающей редукции, благодаря которой обнаруживаемые в русле экзистенциально-аналитического подхода феномены лишаются своего феноменального содержания, переосмысливаются с точки зрения функций психического организма, психических «механизмов» и т.д. Однако психопатология погубила бы себя, если бы не стремилась использовать для проверки своих представлений о функционировании то феноменальное содержание, к которому эти представления применялись и, таким образом, обогатить и углубить их.
Экзистенциальный анализ способствует более глубокому проникновению в природу и происхождение психопатологических симптомов. Это означает прийти к тому факту, что психически больные люди живут в «мирах», отличающихся от наших. Следовательно, знание и научное описание этих «миров» становится главной задачей психопатологии, которую она может решить только с помощью экзистенциального анализа. Экзистенциальный анализ не только научно объясняет пропасть, разделяющую «наш мир» и «мир психически нездоровых людей» и затрудняющую коммуникацию между ними, но и возводит через нее мост на вполне научной основе [1, c. 28–29].
Эта глобальная мировоззренческая установка выходит за границы, собственно, мировоззрения экзистенциализма и смыкается с так называемой «вечной философией» из работ О. Хаксли, проявлением которой в современном массовом сознании становится философия «нью эйдж», утверждающая о «пересекающихся вселенных» сознания разных людей.
И даже психопатологический «симптом» (например, в виде скачка идей, психомоторной заторможенности, речевого новообразования, стереотипии и т.д.) оказывается, в соответствии с этой логикой, которую озвучивает Л. Бинсвангер, «проявлением расширяющегося изменения, происходящего в душе, изменения общей формы экзистенции и всего стиля жизни» [1, c. 28–29].
Через высвечивание бытия открывается Мир. И, как следствие, сразу проступает Бытие. Это исходная мировоззренческая установка экзистенциализма. В случае же экзистенциальной терапии посредством анализа высвечиваются внутренние структуры личности, становясь более открытыми миру, реальному бытию.
Открытость миру как со-причастность событиям, происходящим во внешней реальности, вхождение с ними в какой-то резонанс позволяет, с одной стороны, избежать ошибок про-извести события, которые еще не созрели или вообще не должны про-явиться, поскольку они небытийны, то есть не способствуют высшим задачам и целям жизни, а скорее являются антижизненны-ми. С другой стороны, здесь проступает другой аспект – открытость миру как совместность бытия с другим. Что в свою очередь тянет многочисленные нити, связывающие людей друг с другом. Ведь существование человека никогда не частно, кроме патологических случаев; это всегда разделение мира друг с другом [4, c. 39–51].
По мнению Босса, феномен одиночества невозможен как таковой без наличия феномена совместности [7, c. 107]. Фундаментальная черта экзистенциальной событийности человеческих существ заключается в том, что они совместно поддерживают открытость мира. В этом, собственно, и суть хайдеггеровского знаменитого «человек стоит в просвете бытия». Об этом же – открытия проявлений этой совместности у своих пациентов и клиентов А.Ф. Алексейчика, уди- вительные для него самого. Когда он описывает случай с часами, подаренными ему женщиной за минуту до того, как другая женщина начинает молить его на коленях отдать ей «его время», а потом внезапно начавшая молить его простить его за то, что его не любит, и пронзившее его понимание-осознавание открывшейся в этот момент пронзительности для со-участия бытия, когда всплыла обида, нанесенная его достоинству от отвергнувшей его женщины и его неспособность простить. «И остальные столь же пронзительные встречи с собой через опыт других… И еще более пронзительные встречи с одними через других. Пронзительность бытия, достигаемая, когда один человек становится «дверью» и «окном» в другого, когда непостижимым образом ты говоришь с одним человеком и одновременно с другим, отделенным от тебя пространством и временем» [5].
Одно из важнейших предложений Босса, которое мы можем расценивать не только как пожелание пациенту, но и человеку в целом – «отпустить вещи», позволить им быть, как они есть. Ведь чаще всего мы держим «напряженную узду на наших жизнях», стараясь держать все под контролем, но жизнь – это «всегда слишком много для нас» [7, c. 95]. Короче, задача заключается в том, чтобы позволить свету бытия изливаться свободно. Тем самым и невротический симптом, кстати, можно классифицировать как попытку удержать нечто уже случившееся, сдержать свободные проявления бытия, вместо того чтобы позволить жизни свободно течь. Конкретный механизм здесь заключается в том, чтобы встречать вещи такими, какие они есть, сами вещи (события, людей) для них же самих, а не для чего-либо еще. Открытость человеческой экзистенции складывается из возможности постижения присутствия и значения того, что встречается, а также из возможности ответа встречающимся феноменам способами, соответствующими их значению» (Boss, 1979.) В определяющем смысле это значит дать феноменам говорить самим за себя.
В контексте психотерапевтической работы и конкретных способов в рамках клинической терапии экзистенциальные методы находят свои аналоги, к примеру, в развиваемом отечественным автором М. Бурно методе «терапии творческим самовыражением» (ТТС). К различного типа пациентам возможно применять один и тот же метод терапии. Вместе с тем, этот клиникопсихотерапевтический метод предназначен для лечения прежде всего психопатий и шизофре- нии с дефензивными проявлениями. Кстати, клиническому термину «дефензивный» близки термины «психастеничность», «тормозимость», «астеничность» и т.п., представляющие собой, по сути, противоположность агрессивности психопатий как пассивно-оборонительную позицию. По МКБ-10 такого типа нарушения обозначаются как «специфические расстройства личности» – «шизоидное», ананкастное (обсессивнокомпульсивное)», «тревожное (уклоняющееся) », «истерическое», «зависимое», как «шизотипическое расстройство», «синдром деперсонализации-дереализации».
М.Е. Бурно как разработчика данного метода можно отнести к направлению «клинической гуманистической терапии». Вместе с тем, он подчеркивает отличие своего метода от методов известных экзистенциальных психологов и психотерапевтов, находящихся, скорее, в русле течения «экзистенциально-гуманистической психотерапии» – Э. Фромм, А. Маслоу.
Причину подобного элиминирования следует искать, вероятно, в самой сути отношения экзистенциальных гуманистов к особенностям связей в системе «телесность-душа». Как пишет выдающийся отечественный психолог-клиницист и психотерапевт М. Бурно, «Для экзистенциально-гуманистических психотерапевтов душевная жизнь человека не несет на себе печати телесного происхождения, не подчиняется в своих основах физиологическим, клиническим закономерностям, пребывая в теле не как в ее источнике, а как в приемнике. Задача экзистенциально-гуманистического психотерапевта – помочь человеку почувствовать и осознать себя собою духовно бесконечным, крупицей единой неповторимой Личности. Истины. Разума» [2, c. 127–128]. То есть, здесь М. Бурно хочет сказать, что человек есть духовно-телесная целостность, в понятийной матрице экзистенциализма в целом совершенно не чувствуется даже намека на подобное разделение, обычное для новоевропейского мировоззрения, что, к примеру, хайдеггеровский «человек, находящийся в просвете бытия», находится там своим духом либо только лишь телом. И, кстати, здесь же проступают удивительные аналоги с категориальным рядом экзистенциализма Хайдеггера и Босса, когда М. Бурно описывает существо «целебного механизма» ТТС: «Это – осознанное стойкое прояснение в прежде «смутном», неопределенно-тягостном, «разлаженном» душевном состоянии дефензивного пациента, не чувствовавшего себя собою, собственной, определенной творческой индивидуальности – характерологической (психастенической, аутистической и т.д.) или хронически тревожно-субдепрессивной, хронически деперсонализационной и т.д. Такая встреча с высвеченным целебно-творческими занятиями сама собою смягчает напряженность неопределенности, разлаженности, тревожности-безысходности, порождает более или менее выраженное творческое вдохновение (оживление индивидуальности) с доброжелательным поиском хорошего вокруг (любовь в широком и узком ее понимании), светлым переживанием своего смысла – предназначения в жизни (психастенического, аутистического, хронически субдепрессивного и т.д. – нужен людям именно таким, какой есть) [2, c. 126–127]. При этом автор описываемого подхода отдает себе отчет в том, что «такая его приверженность конституции, клинической картине выглядит более земным (но не более примитивным), чем экзистенциально-гуманистический подход» [2, c. 128].
Действительно, там речь идет прежде всего о помощи конституциональным психопатам и больным с мягко-шизофреническими расстройствами. Конкретные методики терапии творчеством весьма многообразны: терапия создания литературных произведений, картин, коллекционирование, творческий поиск одухотворенности в повседневном самыми различными способами. Таким образом, в осознанном вдохновении и последующем воплощении продуктов своего воображения, труда в творчестве как бы кристаллизуется личность, лишаясь мешающих ей качеств диффузности (деффензивности). В этом смысле и различные патологии-акцентуации проступают в своем новом качестве – как, по сути – необходимые предпосылки для творческой самореализации, высветления своей личности и уникальной специфичной особенности системы ее взаимоотношений с бытием.
При этом взаимодействие с бытием мыслится как обращение к мудрой Природе. Так, М. Бурно, выделяя отличия клинической психотерапии от психотерапии психологической, писал: «клиницист-реалист ощущает человека как материально-природно-телесный источник организмических и душевных, характерологических реакций, самых нежных поэтических, духовных движений, тонких и грубых психопатологических расстройств… Остается врачу-клиницисту (в том числе и в психотерапии) по-гиппократовски постигать стихийную защитно-приспособительную работу природы, пытаясь помогать ей совершеннее защищаться от болезнетворных воздействий… Да, дух человека нематериален, в том числе и для диалектического, одухотворенного клинициста. Но для клинициста (естественнонаучно мыслящего специалиста, диалектического материалиста) дух несет в себе отчетливый след своего материального происхождения в виде «схваченности» своей клиническими, физиологическими закономерностями, хотя и в снятом виде. Поэтому клинический психотерапевт и начинает работу, как всякий клиницист, с дифференциально-диагностического изучения клинической картины, в которой видит сложную защитно-приспособительную работу природы, подсказывающей ему, в чем и где она, природа, сама не справляется и просит врачебной помощи (Бурно М., 1993). Для успеха дела в трудных лечебных случаях, по-моему, необходимо психотерапевту-клиницисту скромно и восхищенно вжиться в эту «волшебномудрую» и в то же время по-земному ограниченную работу природы, отраженную в клинической картине …, тихо-восхищенно вжиться, дабы творческое вдохновение клинического опыта подсказало пути наилучшей помощи Природе и, значит, пациенту [2, c. 172–173].
В связи с различными классификациями неврологических и психопатологических отклонений, продуктивной является мировоззренческая установка экзистенциалистов, которую озвучил своей методологией М. Босс. Ее можно сформулировать следующим образом: цель экзистенциальной терапии – возродить в душе пациента утраченную свободу. Невроз или болезнь можно рассматривать как обнаружение определенной блокировки изначальной открытости и свободы.
В рамках клинического мышления, в том числе – и клинической психотерапии – мы имеем лишь восстановление утраченных функций. Опытный психотерапевт и тем более работающий в направлении экзистенциальной психотерапии в качестве конечной цели имеют раскрытие потенциальных возможностей личности, когда пациент выходит от специалиста, имея большее, чем ранее, количество моделей реагирования на изменяющиеся условия жизни, что, очевидно, не может не способствовать реализации всех его потенциальных способностей – «экзистенциальных потенций».
Исходя из всего вышеизложенного, можно сформулировать следующие выводы. Экзистенциальный анализ можно рассматривать как в философском, так и в психологическом дискурсе как метод выявления степени устойчивости и конструктивности смысложизненных установок личности. Экзистенциальная терапия демонстрирует свою адекватность и применимость и как сократовская «майевтика» – метод раскрытия внутренних самоограничений и последующего саамоосвобождения от них самим человеком. При этом главными центрирующими личность локусами становятся следующие: смысл, степень внутренней свободы, ценность. То есть, человек, успешно прошедший экзистенциальную (само)терапию, получает большую степень свободы для адаптации к окружающей среде за счет проявления качества открытости миру, а также широкие границы аутентичности и осознавания самого себя.
Список литературы Проблема аутоагрессивного поведения в контексте сопряжения дискурсов клинической психологии и философии экзистенциализма
- Бинсвангер Л., Экзистенциальный анализ. М.: Институт общегуманитарных исследований, 2014. 272 с.
- Бурно М., Клиническая психотерапия. М.: Академический проект, ОППЛ, 2000. 719 с.
- Власова О., Феноменологическая психиатрия и экзистенциальный анализ: История, мыслители, проблемы. М: Территория будущего, 2010. 640 с.
- Деринг Э., Философские аспекты вопроса о смысле жизни и смерти//Dasein-анализ в философии и психологии. Минск: Европейский гуманитарный университет, 2001. С. 39-51.
- Есельсон С.Б., Распутывая сеть (православная психотерапия доктора А.Е. Алексейчика)//Московский психотерапевтический журнал. 2007. № 1 (52), январь-март.
- Иванов А.В., Некоторые результаты изучения лиц молодого возраста, склонных к рискованному поведению//Сб. научных работ Х Международного конгресса «Здоровье и образ жизни в ХХI в.» «Инновационные технологии в биологии и медицине», 1-5 декабря 2009 г. М.: РУДН, 2010.
- Летуновский В.В., В поисках настоящего. Экзистенциальная терапия и экзистенциальный анализ. М.: Феникс, 2014. 384 с.
- Пилягина Г.Я., Многоликость саморазрушения (особенности патогенеза аутодеструктивных эквивалентов)//Таврический журнал психиатрии. 2002. Т. 6. № 2. С. 52-56.
- Практикум по психодиагностике. Конкретные психодиагностические методики/Ред. колл. А.И. Зеличенко, И.М. Карлинская, В.В. Столин, А.Г. Шмелев. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989.
- Серый Н.А., Соколов М.А., Уровень склонности к риску при различных типах актуального смыслового состояния//Образование, наука, инновации -вклад молодых исследователей: материалы III (XXXV) Международной научно-практической конференции/Кемеровский госуниверситет. Кемерово: ООО «ИНТ», 2007. Вып. 9. Т. 1. С. 311-312.
- Серый А.В., Система личностных смыслов: структура, функции, динамика. Кемерово, Кузбассвузиздат, 2004. 148 с.
- Фрейд З., По ту сторону принципа удовольствия // Фрейд З. Психология бессознательного. М., 2006. 368 с.Kortunov V., Fedulin A. A critical analysis of the impact of elecommunications on the worldview of Russian society // Middle East Journal of Scientific Research. 2013. Т. 15. № 10. рр. 1389-1395.
- Федулин А.А., Багдасарян В.Э. Сервис в историческом и философском осмыслении. М.: ФГБОУ ВПО «Российский гос. ун-т туризма и сервиса», 2010.
- Nature-based tourism in Russia/Caldito L.A., Dimanche F., Mazina A., Fedulin A., Vetitnev A., Apukhtin A., Kruzhkov D., Kurbanov E., Pecheritsa E., Sakharchuk E., Sharafanova E., Romanova G., Alexanyanc G., Tatarskikh Iu., Belosluttseva L., Smit N., Kryukova O., Vapnyarskaya O., Ilkevich S., Kharitonova T. etc. TEMPUS Project «NETOUR: Network for Excellence in Tourism through Organization and Universities in Russia»/Project Co-funded by the European Union. Spain, 2015.
- Федулин А.А., Сахарчук Е.С. Образовательный кластер по туризму и сервису Московской области//Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. Т. 8. 2014. № 2. С. 49-55.