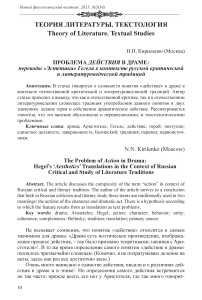Проблема действия в драме: переводы «Эстетики» Гегеля в контексте русской критической и литературоведческой традиций
Автор: Кириленко Наталья Натановна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы. Текстология
Статья в выпуске: 3 (34), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье говорится о сложности понятия «действие» в драме в контексте отечественной критической и литературоведческой традиций. Автор статьи приходит к выводу, что как в отечественной критике, так и в отечественном литературоведении сложилась традиция употребления данного понятия в двух значениях: деяние героя и собственно драматическое действие. Рассматривается гипотеза, что это явление обусловлено и переводческими, и текстологическими проблемами.
Драма, аристотель, гегель, действие, герой, поступок, единство, цельность, завершенность, белинский, традиция, перевод, первоисточники
Короткий адрес: https://sciup.org/14914501
IDR: 14914501
Текст научной статьи Проблема действия в драме: переводы «Эстетики» Гегеля в контексте русской критической и литературоведческой традиций
Не вызывает сомнения, что понятие «действие» относится к самым значимым для драмы: «Драма есть поэтическое произведение, изображающее процесс действия, – так было признано теоретиками, начиная с Ари-стотеля»1. В то же время определение самого понятия «действие в драме» оказалось чрезвычайно сложным. (Конечно, я не подразумеваю деление на акты, здесь как раз все достаточно ясно.)
Очень много написано о единстве действия; писали и о различиях действия в драме и в эпике2. Но определения самого действия встречаются не так часто; прежде всего, его нет у Аристотеля, где так много говорит-

ся о различных аспектах действия. Часто цитируют высказывание Эрика Бентли: «Но что же такое “действие”? Об этом Аристотель умалчивает»3 Сам Бентли это понятие также нисколько не проясняет и не отграничивает от сюжета. Как «специфический тип сюжета» определяет «действие» Н.И. Ищук-Фадеева: «…динамический аспект драмы, ход событий, реализующий волевые устремления героев, т.е. специфический тип сюжета»4. Еще более распространено смешение понятий «действие» и «фабула».
Противоречия между определениями понятия «действие» не только у разных авторов, но иногда в пределах одного исследования5 отражены в специальной книге С.В. Владимирова «Действие в драме»6, в которой парадоксальным образом не дается собственного точного определения. Фразу «Действие – есть образная структура драмы»7 таковым считать нельзя.
В предисловии к знаменитой книге «Драма и действие. Лекции по теории драмы» Б.О. Костелянец говорит о необходимости «сосредоточить внимание на вопросе о природе драматической активности, об особенностях как единичного, индивидуального действия-поступка и сложной его структуре, так и о структуре общего действия драмы» (курсив мой – Н . К .), т.е. обозначает два вида действия. Далее, и это трудно переоценить, исследователь указывает, что уже в «Поэтике» Аристотеля «действие понимается в двух смыслах этого слова. Говоря о “драматически действующих” героях, автор разумеет их особого рода поведение. Но действие для Аристотеля не только индивидуальный поступок – действие лица. Тем же словом он обозначает и общий ход всей трагедии в целом, то есть всю совокупность изображенных в ней поступков и происшествий»8.
И все же намного подробнее, в том числе и при анализе концепции Гегеля, Костелянец рассматривает «действие» именно в первом значении, иногда просто заменяя его словом «поступок», а об «общем действии» говорит очень мало. Между тем, именно у Гегеля даются развернутые характеристики и того, и другого действия.
Часто цитируемое определение Гегеля – «Действие представляет собой осуществленную волю, которая вместе с тем является чем-то осознанным как в отношении своего возникновения и исходного начала внутри самого себя, так и в отношении своего заключительного результата»9 – на наш взгляд, относится к конкретному действию героя драмы . (Используется перевод П.С. Попова; далее при ссылках страницы издания указываются в тексте, в скобках после цитаты; в другом, чаще приводимом издании: «…действие есть исполненная воля, которая вместе с тем осознается как с точки зрения своего истока и исходного момента во внутреннем мире, так и с точки зрения конечного результата»10, на основе перевода Попова). Но, в таком случае, его составными элементами никак не могут быть перипетия и узнавание; они способны быть только элементами действия в драме . Также осуществленная воля никак не может обладать таким признаком, как замкнутость , а ведь в самом первом абзаце раздела «Драматическая поэзия» Гегель говорит о в себе замкнутом действии (in sich abgeschlossene Handlung11), которое и изображает драма (329).
Традиция использования двух нетождественных понятий – действие героя и действие в драме – подтверждается и первым абзацем в подразделе «Принцип драматической поэзии»:
«Необходимым условием драмы вообще является изображение наличных человеческих действий и отношений для представляющего сознания, благодаря этому раскрывающихся в словесном обнаружении со стороны лиц, выражающих действие. Но драматическое действие не ограничивается простым, беспрепятственным проведением определенной цели, а безоговорочно коренится в обстоятельствах, страстях и характерах, входящих в коллизию; поэтому оно приводит к действиям и противодействиям (в другом издании – поступкам и реакциям ), которые опять-таки со своей стороны вызывают необходимость примирительной борьбы и раздвоения (курсив мой – Н . К .)» (330).
Основываясь на важном замечании Гегеля: «Цель и содержание действия оказываются драматическими лишь постольку, поскольку цель своей определенностью в других индивидах вызывает иные, противоположные цели и страсти» (333), подчеркнем – действию героя противостоит противодействие антагониста . В этой связи представляется более точным определение действия в драме, данное В.Е. Хализевым, – « поступки персонажей эпических и драматических произведений в их взаимосвязи , составляющей (наряду с событиями, происходящими независимо от воли героев) важнейшую сторону сюжета»12 (курсив мой – Н.К. ).
Таким образом, и в русской критике, и в отечественном литературоведении сложилась традиция употребления понятия действия в двух значениях. (Ценным исключением является программный труд М.С. Кургинян «Драма», в котором определения «действия» не дается, но употребление слова строго ограничено первым значением13.)
Отсюда следуют два вывода, существенных для определения понятия драматического действия:
-
1. Действие в драме и действие героя , в смысле деяние персонажа – не тождественные понятия. Говорить о единстве и цельности , завершенности можно только в первом случае. С другой стороны, и действие-поступок , и действие-слово , о которых писал В. Волькенштейн, относятся ко второму значению14.
-
2. Драматическое действие включает в себя и действия персонажей, в первую очередь, протагониста (акции), и противодействие персонажей, в первую очередь, антагониста (реакции), причем обязательно во взаимосвязи; с приоритетом воли индивида, а не случая. Оно обладает обязательным свойством непрерывного поступательного движения. (Это одно из принципиальных отличий от действия в эпике.)
Может сложиться впечатление, что данное смешение понятий возникло в советский период. Однако, обратившись к работам В.Г. Белинского, который в первой половине 40-х гг. XIX в. стал первым проводником эстетических идей Гегеля в России, мы сталкиваемся с той же проблемой.
Для нас, в первую очередь, важна статья Белинского «Разделение поэзии на роды и виды». Здесь, прежде всего, говорится об особенностях драматического действия : «…круг действия в драме не замкнут для субъекта, но, напротив, из него выходит и к нему возвращается»15 (далее эта статья цитируется по тому же источнику). Также речь идет о необходимости соблюдать единство действия: «Действие драмы должно быть сосредоточено на одном интересе и быть чуждо побочных интересов. <…> Простота, немногосложность и единство действия (в смысле единства основной идеи) должно быть одним из главнейших условий драмы; в ней все должно быть направлено к одной цели, к одному намерению».
Кроме того, Белинский пишет о действии героя : «…он [субъект в драме – Н . К .] разделился и является живою совокупностию многих лиц, из действия и противодействия которых слагается драма. <…> Драма не допускает в себя никаких лирических излияний; лица должны высказывать себя в действии: это уже не ощущения и созерцания – это характеры». Особенно очевидно значение «деяние» в следующей цитате: «Если бы Антигона погребла тело Полиника, не зная, что ее ожидает за это неизбежная казнь, или без всякой опасности подпасть казни, ее действие было бы только доброе и похвальное, но обыкновенное и не героическое действие».
Наконец, Белинский употребляет слово «действие» и еще в одном значении, которого нет в советских переводах Гегеля, – как «воздействие»: «Посему действие, производимое трагедиею, – потрясающий душу священный ужас; действие, производимое комедиею, – смех, то веселый, то сардонический».
По свидетельству современников, Белинский по-немецки не читал, и Гегеля ему пересказывали Бакунин, Станкевич и др.: «Но, как он не тверд был в немецком языке, то взялись посвящать его в начала Гегеля молодые гегелисты, в том числе Станкевич, изучившие глубже других знаменитого немецкого философа»16. С горячностью пишет об этом Гончаров: «Узнали, что Белинский не знает по-немецки, следовательно, он-де ни Гегеля, ни Гете, ни других в подлиннике не читал, а говорит о них так, как будто читал их сам: ну, значит, и неуч!». И, заступаясь за Белинского, приводит довод, имеющий непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу: «Профессия ученого была не его профессия, да он никогда и не брал ее на себя»17. Таким образом, рецепция гегелевских работ у Белинского не может считаться строго научной.
Первый перевод «Эстетики» Гегеля на русский язык появился в России в 1849–1860 гг.; необходимо отметить, что это был перевод В. Модестова не с немецкого, а с французского изложения18.
Перевод «Эстетики» в издании 1968–1973 гг., подготовленном М. Лившицем, иногда называют «переработанным переводом», т.е. текст не был переведен заново, а как бы «улучшен» перевод, опубликованный в собрании сочинений Гегеля 1938–1958 гг., выполненный в основном Б.Г. Столп-нером. О соотношении двух данных переводов в Предисловии самого
М. Лившица говорится следующее:
«Его [Столпнера – Н . К .] добросовестный труд создал основу для всех последующих изданий “Эстетики” на русском языке. Но увлечение, с которым он относился к своему делу, как всякое достоинство, имело и свою обратную сторону. Желая как можно точнее передать оттенки мысли немецкого философа, Б.Г. Столпнер слишком близко следовал за языком оригинала, перевод его сугубо темен. <…> В идеале “Эстетику” Гегеля следовало бы перевести языком Белинского и Герцена.
Но об этом можно только мечтать. Было бы слишком самонадеянно с нашей стороны стремиться к достижению подобной цели, да и время, отведенное для подготовки рукописи к печати, не позволяло работать над переводом слишком долго. В основном пришлось ограничиться исправлением ранее изданного текста, хотя эта редакционная работа зашла так далеко, что, по существу, читатель имеет теперь совершенно новую книгу».
Все это относится, в первую очередь, к двум томам, переведенным Столпнером, но, в какой-то степени, по-видимому, и к XIV-му тому, переведенному П.С. Поповым, в котором как раз говорится о родах поэзии и который мы здесь цитируем.
В 2007 г. был переиздан перевод 1938–1958 гг.
В таком случае закономерен вопрос: возможно, причина создавшейся традиции – в неточном воспроизведении положений Гегеля Белинским и в переводах «Лекций по эстетике»? С целью ответить на него обратимся к тексту оригинала, хотя назвать так издание «Лекций по эстетике» Гото можно только условно.
Будут учтены все случаи употребления Гегелем слов со значением действия, но наиболее подробно рассмотрены четыре абзаца, в которых о действии говорится то, что впоследствии было признано самым важным и чаще всего цитировалось в работах отечественных теоретиков драмы. Это самый первый абзац в разделе «Драматическая поэзия», два приведенных выше абзаца и следующий абзац о единстве действия:
«Действительно же неприкосновенным законом является единство действия . <…> Вообще уже у каждого действия должна быть определенная цель, которую действие проводит, ибо вместе с действием человек деятельно вступает в конкретную действительность, в которой и самое общее тотчас уплотняется и ограничивается в особое явление. <…> Но, как мы видели, обстоятельства для драматического действия таковы, что индивидуальная цель испытывает благодаря этому затруднения от других индивидов, причем препятствием ей служит противоположная цель, <…> Итак, драматическое действие по существу опирается на действия, сопровождающиеся коллизиями , <…> В таком случае эта развязка вместе с тем как и само действие должна быть субъективной и объективной. <…> Таким образом подойти к настоящему концу можно лишь в том случае, когда цель и назначение действия, в котором заинтересовано целое, тождественны с индивидами и безоговорочно с ним связаны. Смотря по тому, взято ли отличие 14
и противоположность драматически действующих характеров просто или разветвляется в многообразно эпизодические побочные действия и лица, единство может быть либо более, либо менее строгим. <…> в “Ромео и Джульетте” распря семей, не связанная с любящими, их намерениями и судьбой составляет, правда, основу действия, но не является центральной точкой и Шекспир уделяет завершению этой распри в конце должное внимание, хотя и не такое усиленное» (с. 337) (оформление сохранено – Н . К .).
В открывающем раздел «Драматическая поэзия» абзаце мы видим:
-
1) слово “die Handlung” (действие, поступок, деяние): in sich abgeschlossene Handlung / в себе замкнутое действие; entschiedene Handlung / действие в полной мере (в данном контексте – Н . К .); die Handlung selbst / само действие;
-
2) прилагательное “Handelnd” (действующий): als gegenwärtig Handelnden / как действующего в настоящий момент (в данном контексте – Н . К .) (субъекта). Ниже – handelnden Personen / действующие лица и handelnden Individuen / действующие индивиды;
-
3) “das Tun” (образ действий; поведение; деяния): Tuns und Geschehens / поступков и событий. (Ниже – das reale Tun / реальное действие.)
Таким образом, в данном вводном абзаце слово “Handlung” употреблено только для обозначения драматического действия. Для действий субъекта использовано слово “das Tun”.
Иную картину мы видим в нужном нам абзаце из подраздела «Принцип драматической поэзии» (см. выше); кстати, между этими абзацами никакие слова действия не встречаются.
В первом же предложении уже знакомое нам слово “Handlung” встречается во множественном числе – “Handlungen”. Из контекста ясно, что оно используется для обозначения поступков субъекта действия: gegenwärtiger menschlicher Handlungen und Verhältnisse / настоящих человеческих поступков и отношений. (Ниже – Charakteren und Handlungen / характерами и поступками; allgemeinmenschliche Zwecke und Handlungen / общечеловеческие цели и действия.) Спорен смысл конца предложения, где это слово употреблено в единственном числе: die Handlung ausdrückenden Personen / выражающих действие лиц.
В следующем предложении, что очень важно, драматическое действие неожиданно названо другим словом “Handeln”: “das dramatische Handeln”. (Ср. с тем, что пишет В. Терлецкий о своем переводе с немецкого книги Эмириха Корета «Основы метафизики»: «Переведя Wirken как “действие”, Wirkung – как “действование”, Mitwirken – “со-действие” (дабы с помощью дефиса подчеркнуть совместность действия), мы вынуждены были Handeln и Handlung варьировать, исходя из контекста, от “поступков” до “действований” и “дела”»19. В то же время трижды в тексте встречается в этом же значении сочетание со словом “Handlung” – “dramatische Handlung”. Слово “Handeln” встречается в других сочетаниях, например, im Reden wie im Handeln / в речах и деятельности).
Действия субъекта выражены словами “Aktionen und Reaktionen”, в переводе Попова – «действиям и противодействиям».
Теперь рассмотрим абзац, где говорится о действии как осуществленной воле. Знакомое нам слово явно имеет отношение к субъекту: “die Handlung ist das ausgeführte Wollen”. Это подтверждается началом следующего предложения: “Was nämlich aus der Tat herauskommt …” / Что именно следует из поступка… Слово “die Tat” (поступок, дело, действие, деяние) никоим образом не может обозначать драматическое действие. Оно использовано и ниже в предложении: «Драматический индивид сам пожинает плоды своих деяний».
И, наконец, важнейший абзац о единстве действия – die Einheit der Handlung (оформление сохранено – Н . К .). Но ниже Jede Handlung / каждое действие явно снова относится к действию субъекта, а “das Handeln” здесь означает деятельность.
Таким образом, при учете остального текста раздела «Драматическая поэзия», мы видим, что в рассмотренном издании при преобладании слова “die Handlung” для обозначения драматического действия в этом же смысле встречается и слово “das Handeln” .
С другой стороны, если в подавляющем большинстве случаев для действий героя используются слова (по мере убывания) “Handlungen”, “das Handeln’, “das Tun”, “die Tat”, “die Aktion”, “die Reaktion”, то в нескольких случаях для обозначения деяния героя используется слово “die Handlung”, которое, как сказано выше, в основном несет смысловую функцию драматического действия. (В известном нам переводе «Эстетики» на английский для всех значений почти исключительно употребляется слово “action”20.)
Можно ли утверждать, что не только переводчики Гегеля, но и сам Гегель не разграничивал эти значения «действия»? На данный момент, а может быть, и в будущем, нельзя ответить на этот вопрос, что обусловлено проблемой первоисточников, очень подробно и убедительно рассмотренной в диссертации Н.А. Кореневой «Тезис о “конце искусства” в эстетике Гегеля и его трактовка в современной философии»12 (ниже все цитаты приводятся с указанием страниц в скобках). Автор утверждает, что «в настоящее время нам доступны в хорошем объеме лишь своего рода второи-сточники гегелевских лекций по эстетике, каковыми являются конспекты студентов» (с. 24). Кроме того, «известные специалистам к настоящему моменту и изданные в Германии новые источники пока не имеются в русских переводах, что свидетельствует о серьезном отставании отечественного гегелеведения, в его эстетической части, от мирового уровня» (с. 19).
В свете изложенного выше особенно актуальна для данной статьи следующая мысль Кореневой: «Безусловно, крайне важно было бы максимально точно понять, какие слова в лекциях принадлежат непосредственно философу, а какие – его ученикам» (с. 27).
Таким образом, можно констатировать проблему употребления поня-
тия «действие» в русской критической и литературоведческой традициях в двух разных значениях. По нашей гипотезе, это обусловлено судьбой «Эстетики» Гегеля в России и проблемами переводческого и текстологического характера.
Список литературы Проблема действия в драме: переводы «Эстетики» Гегеля в контексте русской критической и литературоведческой традиций
- Волькенштейн В. Драма//Литературная энциклопедия. Словарь литературных терминов: в 2 т. Т. 1. М.; Л., 1925. Стлб. 214
- Lawson J.H. Theory and Technique of. Playwriting and Screenwriting. New York, 1949
- Хализев В.Е. Драма как род литературы (поэтика, генезис, функционирование). М., 1986. С. 33-46
- Бентли Э. Жизнь драмы. М., 2004. С. 32
- Ищук-Фадеева Н.И. Действие//Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008. С. 52
- Волькенштейн В. Драматургия. М., 1969
- Владимиров С.В. Действие в драме. СПб., 2007
- Владимиров С.В. Действие в драме. СПб., 2007. С. 12
- Костелянец Б.О. Драма и действие. Лекции по теории драмы. М., 2007
- Гегель Г.В.Ф. Собрание сочинений: в 14 т. Т. XIV. Лекции по эстетике. М., 1958. С. 332
- Гегель Г.В.Ф. Эстетика: в 4 т. Т. 3. М., 1971. С. 541
- Hegel G.W.F. Vorlesungen über die Ästhetik. III. URL: http://ru.bookzz.org/book/1354399/16eada (accessed 22.10.2015)
- Хализев В.Е. Действие//Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 88
- Кургинян М.С. Драма//Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Роды и жанры. М., 1964. С. 238-362
- Пави П. Словарь театра. М., 1991. С. 66
- Чистюхин И.Н. О драме и драматургии. , 2002. URL: http://review3d.ru/i-n-chistyuxin-o-drame-i-dramaturgii (дата обращения 22.10.2014)
- Petersen J. Die Wissenschaft von der Dichtung. Vol. 1. Weik und Dichter. Berlin, 1939. P. 119-126
- Белинский В.Г. Разделение поэзии на роды и виды. URL: http://philologos.narod.ru/classics/belinsky1.htm#Драма (дата обращения 17.02.2015)
- Лажечников И.И. Заметки для биографии Белинского. URL: http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_3860-1.shtml (дата обращения 17.02.2015)
- Бердяев Н.А. Русская идея. URL: http://fanread.ru/book/3414759/?page=7 (дата обращения 17.02.2015)
- Гончаров И.А. Заметки о личности Белинского. URL: http://www.libok.net/writer/548/kniga/52245/goncharov_ivan_aleksandrovich/zametki_o_lichnosti_belinskogo/read/4 (дата обращения 17.02.2015)
- Лившиц М. Предисловие//Гегель Г.-В.-Ф. Эстетика: в 4 т. М., 1968-1971. URL: http://www.gutov.ru/lifshitz/texts/gegel_perdis.htm (дата обращения 17.02.2015)
- Лоскутникова М.Б. Русское литературоведение XVIII-XIX веков. Истоки, развитие, формирование методологий. М., 2009. С. 180
- От переводчика. URL: http://psylib.org.ua/books/koret01/txt09.htm (дата обращения 26.02.2015)
- Hegel’s Lectures on Aesthetics. Part 3, Section 3. URL: https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/works/ae/part3-section3-chapter3.htm#c-c (accessed 26.02.2015)
- Коренева Н.А. Тезис о «конце искусства» в эстетике Гегеля и его трактовка в современной философии: дис.... канд. филос. наук: 09.00.03. М., 2013