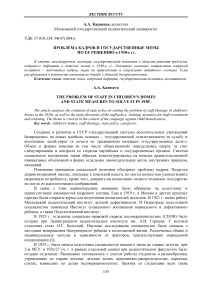Проблема кадров и государственные меры по ее решению в 1930-е гг
Автор: Карасева А.А.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 2 (41), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется эволюция государственной политики в области решения проблемы кадрового дефицита в детских домах в 1930-е гг. Освещены основные направления кадровой политики - подготовка кадров, меры по привлечению и удержанию штатного состава. Тема раскрывается в контексте кампании по борьбе с детской беспризорностью.
Детские дома, кадровый дефицит, государственная политика, воспитатели
Короткий адрес: https://sciup.org/142142650
IDR: 142142650 | УДК: 37.018.324:
Текст научной статьи Проблема кадров и государственные меры по ее решению в 1930-е гг
Создание и развитие в СССР государственной системы воспитательных учреждений базировались на новых идейных основах – государственной ответственности за судьбу и воспитание детей-сирот (в печати их традиционно называли «государственные дети»). Объем и формы помощи (в том числе общественной) определялись сверху за счет стимулирования и контроля со стороны партийных и государственных органов. Система социального воспитания, таким образом, конституировалась на началах правительственной инициативы, облеченной в форму отдельных законодательных актов, внутренних приказов, кампаний.
Изменение принципов социальной политики обострило проблему кадров. Педагоги дореволюционной школы, лояльные к советской власти, не могли полностью удовлетворить назревшую потребность, кроме того, доверить им воспитание «нового человека» государство не могло из идеологических соображений.
В связи с этим первоочередное внимание было обращено на подготовку и переподготовку имеющегося кадрового состава. Еще в 1919 г. в Москве и других крупных городах были открыты курсы для подготовки воспитателей детдомов. В 1921 г. начал работу Московский педагогический институт детской дефективности. В Петрограде подготовкой специалистов занимался Институт социального воспитания нормального и дефективного ребенка, а также Педологический институт.
В 1925 г. отделение социально-правовой охраны несовершеннолетних (СПОН) было создано при Ленинградском педагогическом институте им. А.И. Герцена. У истоков отделения стоял И.Г. Бельский. Научные исследования специалистов были связаны с методами возвращения беспризорного ребенка к полноценной жизни. Различались общие и индивидуальные методы в зависимости от факторов, препятствующих нормальной социализации [1].
В 1925 г. была начата подготовка специалистов высшего звена по охране детства при 2-м МГУ: в 1926/27 уч. г. в рамках отдельной секции при педагогическом факультете было создано отделение. Расписание составлялось с учетом работы студентов в разнообразных учреждениях по охране детства: детских домах, приемниках-распределителях, адресных столах, комиссиях по делам несовершеннолетних. Занятия со студентами вели такие признанные специалисты, как С.С. Тизанов, В.И. Куфаев, Е.Н. Медынский, А.П. Пинкевич, М.Н. Гернет, И.И. Данюшевский [2]. Предусматривалась двухмесячная производственная практика. Студенты распределялись Главным управлением социального воспитания в различные регионы РСФСР и соседних республик: Брянск, Владимир, Иркутск, Сталинград, на Северный Кавказ, в Башкирскую республику, БССР [3]. Период организационного оформления и развития отделения проходил довольно трудно. В 1926/27 уч. г. обучение велось всего на двух курсах - 1-м и 4-м. Отмечались недостаток аудиторий, параллелизм в дисциплинах, ограниченные возможности приглашения преподавателей для чтения новых предметов [4]. В этом учебном году отделение (преобразованное из секции) окончило всего 19 человек [5]. В протоколе общего собрания студентов от 20 января 1928 г. отмечались полная неразбериха в учебном процессе, многопредметность, поверхностное изучение ряда дисциплин, частые прогулы со стороны преподавателей [6]. В резолюции общего собрания при участии декана О.Л. Бема студенты отказались от сохранения отделения СПОН, указывая, среди прочего, на отсутствие перспективы для дальнейшей практической работы [7]. В 1928 г. отделение было вновь преобразовано в секцию, а позднее ликвидировано.
Подготовке специалистов сопутствовал отбор из числа имеющегося педагогического состава. Воспитателями детских домов зачастую становились лица, имеющие хоть какой-то опыт общения с детьми и самое смутное представление о педагогике [8]. Важной проблемой являлась постоянная текучка кадров: ряды воспитателей в годы войн и голода пополнялись «временными» людьми, которые видели в детском доме спасение для себя и своих детей (дети сотрудников зачислялись в состав воспитанников). Переждав тяжелое время, они уходили в поисках лучшей доли.
В условиях кадрового дефицита воспитателями нередко становились так называемые «классово чуждые элементы». Так, в материалах обследования Барыбинского детского дома МОНО указывалось, что «зав. школой Якунин - белогвардеец, заведующий учебной частью Горятовский – служитель культа, заведующий хозяйством Денисенко – белогвардеец, заведующий сельским хозяйством - бывший поп из соседнего села...» [9]. В Чердынском детском доме воспитателем работала бывшая попадья, в Долгодеревенском детдоме Челябинского района - дочь бывшего пристава [10]. Несмотря на то что «засоренность» кадрового состава детских домов постоянно отмечалась в отчетных материалах, заменить на местах существующий педсостав не могли, поэтому на социальное происхождение воспитателей нередко смотрели сквозь пальцы.
Анализ кадрового состава позволил одному из корреспондентов журнала «Детский дом» Д. Савельеву выделить три группы педагогических работников детских домов : 1) «вполне преданные делу строительства социализма люди», систематически выполняющие поставленные перед ними государством задачи; 2) большая часть работников, которые в силу своей малограмотности и низкой квалификации не могут справиться с задачами воспитания; и, наконец, 3) «чуждые элементы» с противоречащей советской идеологией, саботирующие претворение задач коммунистического воспитания в жизнь [11].
Развертывание кампании по борьбе с детской беспризорностью требовало увеличения числа детских учреждений и значительного расширения штата педагогов и воспитателей . Массовой формой подготовки и переподготовки кадров в 1930-е гг. становятся краткосрочные педагогические курсы, слушателями которых были выдвиженцы из рабочей и крестьянской среды. Как отмечал председатель Детской комиссии при ВЦИК Н.А. Семашко: «Краткосрочные курсы достаточны для подготовки хозяйственных, административных и даже воспитательских кадров. Ставка на работниц и крестьянок поможет разрешить больной до сих пор вопрос о кадрах. Эти не расхитят народное добро, не разведут бесхозяйственности, не будут бездушными чиновниками» [12] .
На более высоком уровне подготовка специалистов велась в педагогических училищах и институтах, часть выпускников которых отправлялась на работу в детские дома. В 19351940 гг. в детские дома было направлено 3800 выпускников училищ и институтов [13]. Направления зачастую проводились против желания выпускников: в годы обучения они готовились стать учителями и категорически отказывались от направления в детские дома. Прибывшие на места кадры не соответствовали требованиям детского дома: изучая специальные педагогические дисциплины, они не знакомились с особенностями внешкольной работы – основной для воспитателя, проходили практику в школе, а с условиями закрытого воспитательного учреждения сталкивались уже на работе. Выпускники педучилищ – молодежь 17–18 лет, не имеющая надлежащего жизненного опыта, не могла совладать с коллективом бывших беспризорных. Эту проблему отмечала Н.К. Крупская: «Какая у нас беда с детскими домами? Мы очень часто посылаем туда молодежь, которая жизни не знает, а ребята в детских домах жизнь знают» [14].
Одним из путей решения проблемы стало привлечение на работу бывших воспитанников детских домов. В целом подобная практика давала хорошие результаты: они легче находили общий язык с детьми, отсутствие педагогического образования компенсировалось жизненным опытом. Один из воспитателей детского дома писал Н.К. Крупской: «…Мы, бывшие воспитанники детского дома, ладим с ребятами. Как только приезжают из техникума, назавтра же они сматывают удочки, складывают чемоданы и – на станцию. Сразу же им жутко кажется…» [15] . Воспитанников, которые готовились к работе в детдоме, оставляли в нем до получения законченного среднего образования, из них укомплектовывали группы или целые отделения педагогических училищ.
Острый кадровый дефицит заставлял прибегать к экстренным способам пополнения числа воспитателей. В 1930-е гг. правительство обратилось к мобилизациям – мере количественного, а не качественного решения проблемы. В соответствии с резолюцией постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности» от 31 мая 1935 г. на работу в детские дома направлялись 200 коммунистов для занятия управляющих должностей, 500 коммунистов для руководства воспитательной работой, от органов промышленности и ВЦСПС 300 квалифицированных рабочих для постановки и руководства работой в мастерских, а также 50 выпускников педтехникумов и 125 окончивших педвузы для постановки педагогической и воспитательной работы в учреждениях. Направляемые на работу в детдом комсомольцы, в свою очередь, обязывались проработать на месте не менее 2 лет [10, c. 185]. Для работников детских учреждений устанавливалась повышенная заработная плата – не ниже той, которая была на последнем месте работы. Устраиваясь в детский дом, комсомольцы теряли в среднем 44,7 % своего прежнего заработка. В связи с высокой разницей в ставках (общий объем которой по РСФСР составил 687 000 руб.) был создан дополнительный фонд заработной платы в размере 2 040 000 руб. [16]. Проводившиеся с 1935 г. мобилизации проводились под пристальным вниманием партии и комсомола.
Особое внимание уделялось направлению в детские дома 300 квалифицированных рабочих крупных промышленных предприятий, которым предстояло наладить трудовую подготовку воспитанников («мобилизация 300»). Специальность мобилизуемых соответствовала основному профилю мастерских детских домов (слесарные и швейные), допускалось направление на работу беспартийных. Выявленные сведения о рабочих, мобилизованных в счет «300», позволяют судить об их солидном производственном стаже, который в среднем составлял 22,6 лет; половина из них имели стаж свыше 30 лет [17].
Обращение к отчетам и характеристикам с мест, куда направлялись мобилизованные в счет «500» и «200», свидетельствует об их низкой общеобразовательной подготовке и продолжающейся текучке кадров. Так, в Северокавказский край из 19 комсомольцев, мобилизованных по плану, прибыл только 1. В Дальневосточный край и Карельскую область комсомольцы вовсе не были отправлены. Из представивших сведения регионов 30,3% мобилизованных в счет «500» комсомольцев были уволены с работы и 30,2% со своими обязанностями не справлялись. Соответствующие показатели по мобилизованным в счет «200» характеризуют относительно более благоприятное положение – 10,1 и 9,9 %.
Мобилизованные работники испытывали трудности вследствие недостаточной методической подготовки, малограмотности, отсутствия навыков организации коллектива, умения работать по плану. Среди основных причин увольнения с работы можно назвать несоответствие занимаемой должности, нарушение финансовой дисциплины, бытовое разложение, грубое обращение и издевательства над детьми, призыв в Красную армию, увольнение по собственному желанию [18].
Неоправдавшие себя на работе в детских домах или не явившиеся в соответствии с распоряжением ВЛКСМ заменялись вновь мобилизуемыми в счет «500» [19].
В результате мобилизаций в детских домах увеличилось количество воспитателей без педагогического стажа (10%), работающих в учреждении менее 2 лет (59%). В Казахской АССР 88% сотрудников работали в детдомах менее 2 лет, в Дагестанской АССР - 83%, в ДВК - 84% [20].
При формировании принципов кадровой политики особое внимание уделялось анализу причин постоянной текучки среди сотрудников. Большая часть увольнений воспитателей по собственному желанию в 1930-е гг. обосновывалась тяжелыми условиями труда и низкой заработной платой [21].
Постоянный рост числа воспитанников (результат плановой кампании по борьбе с детской беспризорностью) срывал работу учреждения. На заседании Енисейского губкома отмечалось, что сама обстановка « действует деморализующе - голодные, разутые дети, не поддающиеся воспитанию, учебная работа там не может быть хорошо поставлена, нет ни пособий, ни учебников, ни равномерного прохождения программы ввиду того, что дети поступают с разной степенью обученности» [22]. Психологически тяжелая работа в детском доме, по свидетельству воспитательницы Севастопольского детского дома Барановой, приводила к тому, что многие воспитатели получали инвалидность или попадали на скамью подсудимых [23].
Большинство судебных дел на воспитателей и административный персонал детских домов возбуждалось вследствие краж, растрат, непедагогических мер по отношению к воспитанникам - оскорблений, издевательств, избиений, изнасилований. Оградить воспитанников от проявлений жестокости со стороны подобных «воспитателей» в условиях острого кадрового дефицита было практически невозможно. Формулировки приговоров, статьи и соответствующий срок наказания свидетельствуют о том, насколько болезненно воспринимались подобные преступления советской общественностью [24]. Следствием подобных фактов являлось формирование стереотипа деятельности воспитателя и всего учреждения в целом, идущего вразрез с официальным образом советского педагога, оживавшего на страницах специальной и художественной литературы.
Проблема тяжелых условий труда отчасти решалась за счет перевода трудновоспитуемых детей в специальные учреждения, расширения методической помощи сотрудникам детских домов, проведения конкурсов среди детских учреждений и демонстрирование лучших образцов работы на страницах газет и журналов.
Не менее острыми являлись проблемы материального порядка: низкая оплата труда, отсутствие компенсации за переработку часов (вместо положенных 5 ч воспитатели находились в детском доме 10-12) [25], надбавок, превышение плановой численности воспитанников, оставление без отпуска. Средняя заработная плата воспитателя в 1935 г. по 23 краям и областям РСФСР составляла 207,3 руб. в месяц. Самая низкая зарплата была в Северном крае - 119,8 руб., самая высокая - в Якутии (437,5 руб.) [26].
Шагом вперед в этом вопросе было введение дифференцированной оплаты труда и премиального фонда [27]. На основании постановления ЦИК и СНК СССР от 5 августа 1934 г. «О назначении пенсий и периодических прибавок работникам детских домов» [28] воспитатели и педагоги пользовались также правом на пенсию наравне с учителями средних школ. Каждый год работы в детском доме засчитывался как два года работы в школе. Для поощрения постоянного штатного состава и повышения заинтересованности в работе новых сотрудников были введены периодические прибавки за выслугу лет. Стаж для получения прибавок до 1 января 1933 г. устанавливался в 1 год, засчитывалась работа в детских учреждениях, мастерских, ОНО, пребывание в педагогическом учебном заведении, если ему предшествовала и за ним последовала педагогическая работа как в советское, так и в дореволюционное время. Исключение составляли бывшие классные надзирательницы, классные дамы, а также преподаватели основ религии [29].
Наконец, в 1937 г. была утверждена тарифная сетка для работников детских домов. При начислении заработной платы принимались во внимание стаж работника и место работы – город или сельская местность; преимущество отдавалось первому. Кроме того, поощрялось повышение квалификации среди работников: воспитатели и инструкторы, не имеющие законченного среднего образования, тарифицировались по второму разряду минус 10 %; закончившие высшие учебные заведения – по первому разряду плюс 10 % [30].
Устраивавшимся на работу воспитателям предоставлялась жилплощадь на территории детского дома, если таковой не было – директор оплачивал за счет учреждения съемное жилье [31].
Одним из шагов в ходе разрешения кадровой проблемы было утверждение типовых штатов детских домов. Они были ориентированы на массовый четырехкомплектный (100 воспитанников) детский дом. Нагрузка на одного воспитателя дошкольного детского дома составляла 25 воспитанников при 5-часовом рабочем дне и на одного воспитателя школьного детского дома 33 – 40 детей при той же длительности рабочего дня. Штатное расписание детского дома варьировалось в зависимости от количества воспитанников и от общего бюджета. Нередко дирекция учреждения за счет средств, получаемых от платных воспитанников (содержавшихся за счет родителей в учреждении) и доходов от подсобного хозяйства, принимала на работу необходимых сотрудников – методистов, руководителей кружков, нянь, медсестер и др.
Меры материального стимулирования, расширение методической помощи преподавателям, сеть курсов и педтехникумов и, в первую очередь, мобилизации в детские дома позволили уже в 1935 – 1936 гг. добиться очевидных результатов. В 1936 г. на 1 детский дом в среднем приходилось 6 воспитателей и пионервожатых, 1 инструктор по труду. Однако повсеместно не хватало заместителей по воспитательной работе и медицинского персонала (0,3 и 0,7 на 1 учреждение соответственно) [33].
Сохраняла свою остроту и проблема текучки кадров среди сотрудников детских домов. Как отмечалось в «Сборнике по вопросам охраны детства» (официальный орган Наркомпроса), до 50% работников из наиболее квалифицированных ежегодно переходят на другую работу [34].
Привлечению сотрудников детских домов и удержанию их на рабочих местах сопутствовало расширение типовых штатов, в результате кадровый дефицит постоянно сохранялся: в 1940 г. отмечалась нехватка 2 937 воспитателей [36]. В постановлении СНК РСФСР № 209 от 03.04.1940 г. отмечалось, что по учтенным 22 областям из 2775 воспитателей 1117 чел. (40,3%) имеют низшее образование [37]. Из 1205 директоров детских домов квалификационным требованиям (наличие высшего образования) удовлетворяло только 45 человек (3,7%) (при этом низшее имели 210 чел. (17,4%) [38]. Естественно, что при таком составе работников детский дом не мог оставаться на высоте своих задач. Нехватка квалифицированных кадров и в средней школе, приоритетно снабжавшейся специалистами, несоблюдение плана выпуска в педагогических учебных заведениях среднего и высшего звена лишь отчасти объясняют складывающееся положение.
Особенно остро вопрос стоял в детских домах для трудновоспитуемых, физически и умственно дефективных, в которых сами условия работы требовали особого профессионализма от сотрудников. Несмотря на то что ряд малограмотных воспитателей с большим стажем, накопленным опытом работы с детьми, отлично зарекомендовали себя, вопрос повышения образовательной подготовки нуждался в скором решении. На 1941 г. было запланировано иметь в системе подготовки кадров 8–10 педагогических училищ с контингентом учащихся 3000 человек, два отделения при пединститутах с контингентом 100 – 120 человек [40].
Несмотря на острый кадровый дефицит в детских домах, идеологические принципы сохраняли для государства свою значимость. Так, в детские дома запрещалось принимать, даже на должность кухарок или уборщиц, спецпереселенцев [41]. Развернутая в 1937 г. кампания по борьбе с «врагами народа» напрямую касалась и детских домов. Просчеты и недостатки нередко выдавались за проявления «вредительства»: «Враги народа пробрались к руководству органами народного образования и детскими домами. Контрреволюционеры, вредители, а то и просто воры и жулики, к сожалению, пробрались кое-где в детдома и «руководят» (конечно, по-своему) воспитанием детей» [42]. На основании Указа Президиума Верховного совета СССР от 26 июня 1940 г. за неявку или опоздание свыше 20 минут воспитатели и другие работники должны были привлекаться к уголовной ответственности. Подобные «прогулы» могли происходить и из-за частой смены графика работы воспитателя, как это имело место, например, в Максимовском детском доме Московской области [43].
Таким образом, планомерная кадровая политика в 1930-е гг. позволила отчасти решить проблему дефицита сотрудников. Хорошие результаты дала практика привлечения к работе бывших воспитанников детских домов и рабочих с большим производственным стажем. Открытие специальных отделений – СПОН – при педагогических училищах и институтах не могло дать скорых результатов, период организационного оформления был связан с неразберихой в учебном процессе, привлечением студентов и преподавателей. Расширялись типовые штаты с целью разнообразить досуг воспитанников, наладить хозяйственную и административную работу учреждений; сеть курсов, консультационных центров, которые давали масштабную подготовку начинающим воспитателям, позволяли повысить квалификацию имеющихся сотрудников. Методы восполнения кадрового дефицита коррелировались растущим количеством детских учреждений, не обеспеченных штатом сотрудников. Мобилизации позволяли достичь очевидных результатов, но закрепление на работе специалистов, принудительно направленных и столкнувшихся с тяжелыми условиями работы в детском доме, давалось с большим трудом. Несомненно, кампания была бы более успешной, если бы наряду с чисто бюрократическими методами, применялась широкая агитация, обсуждение в средствах массовой информации, как это делалось позднее при призывах молодежи на «стройки коммунизма». Меры материального стимулирования способствовали закреплению кадрового состава на местах, однако увеличение заработной платы, создание премиальных фондов, расширение практики денежных поощрений не могло компенсировать тех моральных затрат, которые несли сотрудники детских домов, отдаваясь воспитанию бывших беспризорных, подкидышей, вырванных из семьи детей.