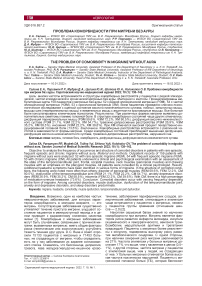Проблема коморбидности при мигрени без ауры
Автор: Салина Е.А., Парсамян P.P., Мудрак Д.А., Цилина Ю.И., Шитова Ю.А., Колоколов О.В.
Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj
Рубрика: Нервные болезни
Статья в выпуске: 1 т.18, 2022 года.
Бесплатный доступ
Цель: анализ частоты встречаемости и структуры коморбидных расстройств у пациентов с редкой эпизодической, частой эпизодической и хронической мигренью без ауры. Материал и методы. Проанализированы амбулаторные карты 159 пациентов с мигренью без ауры: 52 с редкой эпизодической мигренью (РЭМ), 54 с частой эпизодической мигренью (ЧЭМ), 53 с хронической мигренью (ХМ). Всем пациентам проведено клинико-психологическое обследование с оценкой состояния височно-нижнечелюстного сустава, лобных, затылочных мышц, мышцы шеи (перикраниальных мышц) и жевательных мышц с акцентом на крыловидные мышцы. Все больные были консультированы клиническим психологом. Результаты. При различных формах мигрени выявлены дополнительные симптомы помимо головной боли. В структуре коморбидных состояний чаще других отмечались: дисфункция перикраниальных мышц (РЭМ 59,6%, ЧЭМ 72,2%, ХМ 90,5%), дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (РЭМ 21,1%, ЧЭМ 22,2%, ХМ 54,7%), тревожно-депрессивные расстройства (РЭМ 26,9%, ЧЭМ 35,2%, ХМ 58,5%), инсомния (ЧЭМ 22,2%, ХМ 39,6%). При ХМ отмечался высокий процент лекарственно-индуцированной головной боли (73,6%). Заключение. Коморбидные расстройства встречаются с различной частотой в зависимости от формы мигрени. Среди коморбидных состояний преобладают мышечная дисфункция, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, тревожно-депрессивные расстройства, нарушения сна.
Головная боль, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, дисфункция мышц, коморбидность, мигрень
Короткий адрес: https://sciup.org/149141123
IDR: 149141123 | УДК: 616.857.2
Текст научной статьи Проблема коморбидности при мигрени без ауры
течение, заболевания периферических сосудов, аллергические заболевания, стенокардия и эпилепсия чаще встречаются у пациентов с мигренью, нежели у пациентов группы сравнения (отношение шансов — 2,0) [2].
Накоплен серьезный багаж знаний по изучению коморбидности при мигрени. Мигрень является фактором риска развития инфаркта миокарда, инсульта (ишемического и геморрагического), венозной тромбоэмболии, мерцательной аритмии и трепетания предсердий. Пациенты с мигренью более резистентны к инсулину, подвержены высокому риску развития метаболического синдрома. С одной стороны, при наличии ожирения риск мигрени увеличивается на 27%. Частота эпилепсии у больных мигренью достигает 17%, что выше, чем у населения в целом (0,51 %), с другой стороны, частота мигрени у пациентов с эпилепсией выше, чем у людей, не страдающих от нее. У больных мигренью отмечается более высокая частота психических нарушений. Пациенты с мигренозной головной болью (ГБ), которая беспокоит их в течение 14 дней и более, страдают от депрессии и тревожного расстройства. Считают, что бессонница есть предиктор депрессии и тревоги у больных мигренью, поскольку связь между мигренью и бессонницей двунаправленна, а бессонница сосуществует с депрессией и тревогой. Обнаружена связь между мигренью и синдромом беспокойных ног. Частота заболеваний желудочно-кишечного тракта значительно выше у пациентов с мигренью. В то же время пациенты с жалобами на регургитацию, диарею, запоры и тошноту более часто страдают от мигренозной ГБ. Мигрень возникает в 20-78% случаев рассеянного склероза, часто наблюдается при синдроме Шегрена. Сообщалось о связи между бронхиальной астмой и мигренью, особенно у женщин. Существует двунаправленная связь между мигренью и хронической болью в пояснице при дисменорее, заболеванием височно-нижнечелюстного сустава и фибромиалгией. Сообщается о том, что у 51 % пациентов с болезнью Меньера выявляют мигренозную ГБ, а 45% пациентов испытывают симптомы мигрени во время приступа болезни Меньера [3].
Цель — анализ частоты встречаемости и структуры коморбидных расстройств у пациентов с редкой эпизодической, частой эпизодической и хронической мигренью без ауры.
Материал и методы. Проведен анализ 159 амбулаторных карт пациентов с диагнозом «Мигрень без ауры», которые обратились к неврологу в Клинику лечения боли в период с марта по декабрь 2021 г. Все пациенты — женского пола. Диагноз мигрени устанавливали в соответствии с диагностическими критериями Международной классификации головной боли 3-й версии, 2018 г. [4]. Всем больным проведено клинико-психологическое обследование, включавшее клиническое интервью, общий и неврологический осмотры с оценкой состояния височно-нижнечелюстного сустава, лобных, затылочных мышц, мышц шеи (перикраниальных мышц), жевательных мышц с акцентом на крыловидные мышцы. Все пациенты были консультированы клиническим психологом с применением тестов Люшера, Сонди, госпитальной шкалы тревоги и депрессии, клинического опросника невротических состояний. При обследовании у ряда пациентов обнаружены симптомы тревоги и субклинические признаки депрессии. Критериями исключения из исследования являлось наличие у больного конверсионных, поведенческих расстройств. Для определения дисфункции височно-нижнечелюстного сустава использовали диагностические критерии согласно Международной классификации орофациальной боли, 1-е издание [5]. Наличие напряжения, болезненности перикраниаль-ных и жевательных мышц проводили пальпаторно по предложенной методике [6].
Для статистического анализа использовался программный пакет Microsoft Excel. Распределение признаков в сравниваемых группах не соответствовало нормальному распределению (Гаусса), поэтому для статистической оценки значимости различий между группами выбран непараметрический критерий Манна — Уитни. Для описания групп рассчитаны медиана ( Me ), верхний и нижний квартили (q25, q75), минимум и максимум (min, max). С целью выявления значимых патологий вычисляли критерий ꭓ2 с последующим расчетом силы взаимосвязи при помощи коэффициента Спирмена (C’) с определением силы сопряжения по Rea & Parker. Для значимых состояний рассчитывали критерий отношения шансов ( OR ). Учитывая множественные сравнения, учитывали поправку Бонферрони, статистически значимыми считали различия на уровне p <0,017.
Результаты. Среди пациентов с мигренью без ауры РЭМ определена у 52 больных, ЧЭМ — у 54 пациентов, обратившихся в клинику, ХМ — у 53 больных. Возраст, частота ГБ в месяц, длительность ГБ, возраст появления ГБ при разных формах мигрени представлены в табл. 1. Группы пациентов с РЭМ, ЧЭМ и ХМ были сопоставимы по возрасту, длительности ГБ, возрасту дебюта ГБ. Достоверные различия по частоте приступов ГБ в месяц обусловлены различными формами мигрени. У пациентов ГБ сочеталась с сопутствующими расстройствами, структура которых представлена в табл. 2.
Таблица 1
Общая характеристика пациентов с редкой и частой эпизодической, а также с хронической мигренями
|
Вариант мигрени |
Возраст |
Длительность ГБ |
Возраст начала ГБ |
Частота ГБ (дней в месяц) |
|
Me q25 — q75 |
||||
|
РЭМ ( n =52) |
36 29,5–43 |
18,5 8–26 |
17 16–20,5 |
2 1–2 |
|
ЧЭМ ( n =54) |
37,5 33–44 |
20 13–26 |
17,5 15–21 |
7,5 6–9 |
|
ХМ ( n =53) |
38 33–44 |
20 15–26 |
18 15–20 |
20 17–24 |
|
Z , p |
Z = –1,03 p =0,30 Z 1= –1,28 p 1=0,20 Z 2= –0,17 p 2=0,87 |
Z = –0,98 p =0,33 Z 1= –1,24 p 1=0,21 Z 2= –0,26 p 2=0,79 |
Z =0,14 p =0,89 Z =1 –0,28 p 1 =0,78 Z 2= –0,3 p 2=0,76 |
Z = –8,72 p <0,001 Z 1= –8,83 p 1<0,001 Z 2= –8,91 p 2<0,001 |
Примечание: q25, q75 — верхний и нижний квартили, Z 1, p 1 — попарное сравнение РЭМ и ЧЭМ; Z 2, p 2 — попарное сравнение РЭМ и ХМ; Z 3, p 3 — попарное сравнение ЧЭМ и ХМ.
Таблица 2
Структура расстройств, выявленных у пациентов с мигренью без ауры
|
Структура расстройств |
РЭМ, n /% |
ЧЭМ, n /% |
ХМ, n /% |
Критерий χ2 p |
|
Дисфункция перикраниальных мышц |
31/59,6 |
39/72,2 |
48/90,5 |
χ =6,2 p =0,013 χ 2=118,05 1 p <0,001 χ22=44,16 p 2<0,001 |
Окончание табл. 2
|
Структура расстройств |
РЭМ, n /% |
ЧЭМ, n /% |
ХМ, n /% |
Критерий χ2 p |
|
Дисфункция жевательных мышц |
29/55,7 |
36/66,6 |
42/79,2 |
χ =5,73 p =0,017 χ 21=15,57 p 1<0,001 χ2223=31,36 p 23<0,001 |
|
Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава |
11/21,1 |
12/22,2 |
29/54,7 |
χ =0,01 p =0,93 χ21=0,02 p 1=0,90 χ232=332,85 p 23<0,001 |
|
Бруксизм |
4/7,6 |
10/21,05 |
15/28,3 |
χ =6,73 p =0,01 χ 21=0,38 p 1=0,541 χ2232=74,54 p 23<0,001 |
|
Лекарственно-индуцированная головная боль |
— |
10/18,5 |
39/73,6 |
χ =2,21 p =0,138 χ2232=13,75 p 23<0,001 |
|
Тревожно-депрессивные расстройства |
14/26,9 |
19/35,2 |
31/58,5 |
χ =0,035 p =0,85 χ21 =2,95 p 1=0,09 χ232=227,46 p 23<0,001 |
|
Инсомния |
5/9,6 |
12/22,2 |
21/39,6 |
χ =1,96 p =0,16 χ21=1,53 p 1=0,22 χ232=221,72 p 23<0,001 |
|
Сердечно-сосудистые заболевания |
3/5,8 |
6/11,1 |
7/13,2 |
χ =0,22 p =0,64 χ21=1,47 p 1=0,23 χ2223=0,04 p 23=0,84 |
|
Ожирение |
3/5,8 |
4/7,4 |
9/16,9 |
χ =0,22 p =0,64 χ 21=0,003 p 1 =0,96 χ2223=8,83 p 3=20,003 |
|
Заболевания желудочно-кишечного тракта |
4/7,7 |
6/11,1 |
4/7,5 |
χ =0,17 p =0,68 χ21=2,51 p 1=0,11 χ22=0,15 p 2=0,70 |
Примечание:показателиχ21, p 1 — РЭМ, χ22, p 2 — ЧЭМ, χ23, p 3 — ХМ.
При анализе структуры расстройств, помимо ГБ, независимо от частоты мигренозных приступов, лидирующее место заняла дисфункция перикрани-альных мышц. Более высокий процент нарушений отмечался у пациентов с ХМ по сравнению с РЭМ (90,5 и 59,6% соответственно). Расчет отношения шансов появления мышечной дисфункции подтвердил, что при хронизации ГБ вероятность была выше: OR РЭМ=2,172±0,315; OR ЧЭМ=4,246±0,336; OR ХМ=15,223±0,494. Определялась средняя сила сопряжения дисфункции перикраниальных мышц для больных с РЭМ, ЧЭМ и относительно сильное сопряжение при ХМ (C’ РЭМ=0,213; C’ ЧЭМ=0,365; C’ ХМ=0,563). Следует отметить, при РЭМ чаще отмечались жалобы на дискомфорт в области мышц шеи, тогда как пациенты с ХМ характеризовали свои ощущения как болезненность, тяжесть в затылке, «свинцовая голова», «напряжение в голове, в области лица».
Дисфункция жевательных мышц определялась преимущественно у больных с ЧЭМ и ХМ в сравнении с РЭМ (66,6, 79,2 и 55,7% соответственно). Вероятность появления расстройства составила 2,101±0,314 при РЭМ, 3,465±0,325 при ЧЭМ и 6,873±0,372 при ХМ. Анализ статистической связи ГБ и болезненности, напряжения мышц жевательной группы показал, что сопряжения средней силы характерно для пациентов с РЭМ и ЧЭМ (C’ РЭМ=0,208, C’ ЧЭМ=0,344) и относительно сильная связь прослеживается при ХМ (C’ ХМ=0,485).
Обращает внимание, что дисфункция височнонижнечелюстного сустава встречалась преимущественно у больных с ХМ (54,7%). Критерий отношения шансов составил 6,83±0,357 и практически совпадал с вероятностью развития дисфункции жевательных мышц (6,873±0,37). При РЭМ и ЧЭМ не было выяв- лено существенной силы сопряжения с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, тогда как при ХМ наблюдалась относительно сильное сопряжение 0,524. Бруксизм преобладал в группе пациентов с ХМ, критерий отношения шансов составил 23,878±0,42, определялась сильная сила сопряжения 0,755.
ЧЭМ и ХМ чаще сопровождались инсомнией в отличие от РЭМ. Значимые показатели были получены только для группы ХМ: относительно сильное сопряжение 0,435 и высокие показатели вероятности развития 5,327±0,38.
Тревожно-депрессивные расстройства отмечались более чем у половины больных в группе с ХМ (58,5%) в отличие от пациентов с РЭМ (26,9%). Относительно сильное сопряжение 0,477 определялась только при ХМ, критерий отношения шансов также был выше в данной группе больных 5,466±0,34.
У пациентов с ХМ в 73,6% отмечалась лекарственно-индуцированная ГБ, что значительно отличается от данных, полученных при ЧЭМ (18,5%). Большинство больных с ХМ нерационально применяли комбинированные анальгетики и триптаны (51,3%), на втором месте был избыточный прием триптанов (28,2%), неконтролируемое употребление комбинированных анальгетиков отмечалось несколько реже (20,5%). В 74,3% случаев при лекарственно-индуцированной ГБ отсутствовала предшествующая профилактическая терапия мигрени. При ХМ определялась средняя сила сопряжения лекарственно-индуцированной ГБ 0,351, критерий отношения шансов составил 4,372±0,421.
При оценке наличия сердечно-сосудистых заболеваний (артериальной гипертензия, атеросклероз) не было выявлено статистически значимой связи среди пациентов с РЭМ, ЧЭМ, ХМ. Ожирение преобладало у больных с ХМ, установлена средняя сила сопряжения 0,284, показатель отношения шансов был равен 4,383±0,532. Расстройства системы пищеварения встречались редко и определялись преимущественно у пациентов с ЧЭМ.
При анализе сочетаний различных состояний, не включая ГБ, было выявлено, что одно дополнительное расстройство было обнаружено у 17 пациентов с РЭМ, два нарушения было выявлено у 31 больного (РЭМ — 21, ЧЭМ — 10), у остальных пациентов встретилось три и более расстройств. Наиболее частыми нарушениями были дисфункция перикра-ниальных мышц, дисфункция жевательных мышц, тревожно-депрессивные расстройства. Вероятность наличия лекарственно-индуцированной ГБ, дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, нарушения сна была выше при ХМ.
Обсуждение. Дисфункция перикраниальных мышц встречается при различных формах первичной ГБ, но наиболее распространена среди пациентов с мигренью и ГБ напряжения [7]. По результатам нашего исследования, лидирующую позицию среди других сопутствующих расстройств занимала дисфункция перикраниальных и жевательных мышц. Сегодня остается дискуссионным вопрос о роли мышечного напряжения в развитии мигренозных атак: способствует ли наличие миофасциального синдрома увеличению бремени мигрени в виде нарастания частоты и интенсивности приступов? Нами было замечено, что при ХМ наблюдается высокая частота мышечной дисфункции и дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Напряжение пери-краниальных и жевательных мышц может выступать как в качестве непосредственного источника боли, так и являться фактором риска трансформации боли в хроническую форму за счет механизмов периферической и центральной сенситизации, снижения активности нисходящего контроля боли. Длительное напряжение жевательных и крыловидных мышц постепенно может приводить к мышечной гипертрофии и развитию патологии ВНЧС [8]. Исследования демонстрируют, что частота болевого синдрома в области головы, лица и шеи при мигрени зависит от частоты приступов ГБ: чем выше частота мигренозных атак, тем более выражены дисфункциональные изменения в мышцах. Требуется дальнейшее изучение обратных механизмов влияния боли на частоту приступов мигрени [9].
Расстройства тревожно-депрессивного спектра гораздо чаще встречаются у пациентов с мигренью, чем в популяции, и даже в большей степени у больных с ХМ, чем у пациентов с ЭМ. В проведенной работе мы определили высокий процент тревожнодепрессивных расстройств при ХМ, что в сочетании с мышечной дисфункцией может обусловливать хроническую форму течения заболевания. Выявление тревожно-депрессивных расстройств у пациентов с РЭМ и ЧЭМ может рассматриваться как фактор, отягощающий течение мигрени и способствующий хронизации ГБ. Существуют гипотезы, которые потенциально могли бы объяснить сложные взаимосвязи между сопутствующими расстройствами психической сферы, но биологические механизмы, объясняющие эти взаимодействия, до сих пор недостаточно изучены. В настоящее время общие патофизиологические механизмы мигрени и тревоги включают дисфункцию нейротрансмиттерных систем, в частности серотонинергической, нарушение регуляции гипоталамо-гипофизарно-надпочечнико-вого комплекса, гормональные расстройства [10].
Нарушение сна у пациентов с мигренью было представлено различными вариантами инсомний. Вероятно, существует двунаправленная связь между инсомнией и мигренью, тем не менее точная природа этой ассоциации, лежащие в ее основе механизмы и взаимодействия сложны и до конца не изучены. Плохое качество или низкая продолжительность сна могут быть триггером приступа мигрени, а пациенты, страдающие мигренью и инсомнией, сообщают о более высокой частоте приступов ГБ. Растущее количество данных свидетельствует о том, что может существовать общая этиология и патогенез мигренозных атак и нарушений сна [11].
У пациентов с ХМ достоверно чаще отмечалась лекарственно-индуцированная ГБ, что согласуется с данными ранее проводимых исследований. Риск абузусной ГБ связан с нарастанием частоты мигренозных приступов и, как правило, нерациональным приемом комбинированных анальгетиков, триптанов, отсутствием своевременной профилактической терапии. Чрезмерное употребление лекарств от острой ГБ приводит к непреднамеренному увеличению частоты и интенсивности болевого синдрома. Таким образом, развивается порочный круг дальнейшего употребления лекарств и увеличения частоты ГБ, превращая лечение ГБ в фактическую причину этого заболевания. Лекарственно-индуцированная ГБ характеризуется значительным негативным влиянием на качество жизни пациента и играет важную роль в трансформации эпизодической ГБ в хроническую.
Сочетание мигрени и заболеваний системы кровообращения наблюдается преимущественно при мигрени с аурой. Исследования показывают, что мигрень с аурой — фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркта миокарда, стенокардии) и цереброваскулярных болезней, в частности риск развития ишемического инсульта повышается в 1,7 раза. Ожирение значительно чаще наблюдается у пациентов с ХМ и также является независимым фактором риска хронизации боли [12].
Заключение . У пациентов с мигренью определяются коморбидные состояния, частота возникновения которых зависит от формы мигрени. По мере хронизации ГБ повышается вероятность появления дополнительных симптомов, на что указывает высокий процент различных коморбидных нарушений при частой эпизодической и хронической мигренях по сравнению с редкой эпизодической. Значимое место в структуре коморбидных состояний принадлежит мышечной дисфункции в области головы, лица и шеи, дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, тревожно-депрессивным расстройствам и инсомнии. Таким образом, полученные данные подтверждают необходимость всесторонней оценки состояния пациента с мигренью, тщательной диагностики ко-морбидных нарушений с целью повышения качества оказания медицинской помощи.
Список литературы Проблема коморбидности при мигрени без ауры
- Osipovа VV. Migraine: clinic, diagnosis and treatment approaches. Pharmateka 2008; (20): 43-7. Russian (Осипо-ва В. В. Мигрень: клиника, диагностика и подходы к лечению. Фарматека 2008; (20): 43-7).
- Buse DC, Reed ML, Fanning KM, et al. Comorbid and co-occurring conditions in migraine and associated risk of increasing headache pain intensity and headache frequency: results of the migraine in America symptoms and treatment (MAST) study. J Headache Pain 2020; 21 (1): 23.
- Tachibana H. Comorbidity in migraine. Rinsho Shinkeigaku 2022; 62 (2): 105-11.
- The International Classification of Headache Disorders, 3rd ed. Cephalalgia 2018; 38 (1): 1-211.
- International Classification of Orofacial Pain, 1st ed. (ICOP). Adapted Russian version. Almanac of Clinical Medicine 2022; 50 (Suppl): 1-82. Russian (Международная классификация орофациальной боли, 1-е изд. (ICOP). Адаптированная русскоязычная версия. Альманах клинической медицины 2022; 50 (Прил.): 1-82). DOI: 10.18786/2072-0505-2022-50-0 05.
- Bendtsen L, Jensen R, Jensen NK, Olesen J. Pressure-controlled palpation: a new technique which increases the reliability of manual palpation. Cephalalgia 1995; 15 (3): 205-10.
- Osipova VV. Pericranial muscle dysfunction in primary headache and its correction. Neurology, neuropsychiatry, psychosomatics 2010; (4): 29-36. Russian (Осипова В. В. Дисфункция перикраниальных мышц при первичной головной боли и ее коррекция. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика 2010; (4): 29-36).
- Zenkevich AS, Filatova EG, Latysheva NV, et al. Migraine and temporomandibular joint dysfunction: mechanisms of comorbidity. S. S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry 2015; 115 (10): 33-8. Russian (Зенкевич А. С., Филатова Е. Г., Латышева Н. В. Мигрень и дисфункция височно-нижнече-люстного сустава: механизмы коморбидности. Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова 2015; 115 (10): 33-8).
- Zenkevich AS, Filatova EG, Latysheva NV. Migraine and comorbid pain. Medical Council 2016; (8): 106-15. Russian (Зенкевич А. С., Филатова Е. Г., Латышева Н. В. Мигрень и комор-бидные болевые синдромы. Медицинский совет 2016; (8): 106-15).
- Mia TM, Beasse De Dhaem O, Kroon Van Diest A, et al. Migraine and its psychiatric comorbidities. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2016; 87 (7): 741-9.
- Tiseo С, Vacca A, Felbush A, et al. Migraine and sleep disorders: A systematic review. Pain 2020; 21 (1): 126.
- Bayushkina LI, Naprienko MV. Problem of chronic migraine comorbidity. J Medical Review 2018; (9): 37-40. Russian (Батюшкина Л. И., Наприенко М. В. Проблема ко-морбидности хронической мигрени. Медицинское обозрение 2018; (9): 37-40).