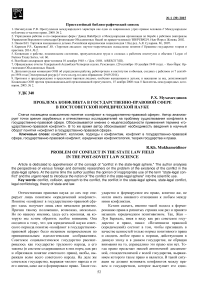Проблема конфликта в государственно-правовой сфере в постсоветской юридической науке
Автор: Мухаметдинов Р.Х.
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве
Статья в выпуске: 1 (39), 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена осмыслению понятия «конфликт в государственно-правовой сфере». Автор анализирует точки зрения зарубежных и отечественных исследователей на проблему существования конфликта в государственно-правовой сфере. Обосновывается мнение о нецелесообразности применения термина «гоударственно-правовой конфликт». В то же время автор обосновывает необходимость введения в научный оборот понятия «конфликт в государственно-правовой сфере».
Конфликт, коллизия, теория государства и права, государственно-правовой конфликт, конфликт в государственно-правовой сфере, юридическая конфликтология
Короткий адрес: https://sciup.org/142233717
IDR: 142233717
Текст научной статьи Проблема конфликта в государственно-правовой сфере в постсоветской юридической науке
Отечественная правовая наука до сих пор оперирует лишь понятием «юридический конфликт». Понятие «конфликт в государственно-правовой сфере» здесь получает лишь свое начальное развитие. Причин такому положению, возможно, несколько. Но по нашему мнению, здесь есть основная, на которую мы хотим обратить особое внимание. Она сводится к тому, что для юридической науки советского периода понятие «конфликт в государственноправовой сфере» было явлением неприемлемым по принципиальным идеологическим соображениям. Советское социалистическое государство рассматривалось как государство трудового народа, а его законы (в системе содержащихся в них норм, как раз и образовала понятие советского права), якобы, выражали волю всего советского народа. На деле же советское государство, выражая «волю» народа и от его имени, само же и формировало право. Такое гос- ударство и формируемое им право, конечно же, не могли иметь никакого отношения к любым между ними конфликтам.
Кстати сказать, именно такой подход к формированию права в развитых странах как раз и принято называть юридическим позитивизмом. Так, Жан – Луи Бержель, имея в виду как раз советское государство и право, писал: «Позитивизм правовой (юридический) состоит в том, чтобы признавать в качестве ценностей только нормы позитивного права и сводить любое право к нормам, действующим в данную эпоху и в данном государстве, не обращая внимания на то, справедливо это право или нет. Тогда право предстает некоей автономной дисциплиной, отождествляемой с волей государства, выражением которого такое право и является. В такой ситуации не должно возникать конфликтов между правом и государством, которое выступает его един-

ственным источником, эволюция или мутации которого влекут за собой соответствующие изменения для права. Право редуцируется до уровня государственных атрибутов и часто оборачивается произволом властей или политикой силы» [1, c. 48-49]. Из такого рассуждения Жан-Луи Бержеля, да и из всей его работы видно, что понятие «конфликт в государственно-правовой сфере» или «конфликт между правом и государством» возникло в западной литературе и рассматривается как естественное явление. Об этом свидетельствуют работы и других зарубежных авторов [2; 3; 4].
Что же касается нашей отечественной юридической науки, то о конфликте между правом и государством в советские времена вообще не писали. Даже сегодня понятие «конфликт в государственно-правовой сфере», в науке «Теория государства и права», употребляется с большой осторожностью. Причин такой осторожности, по нашему мнению, несколько.
Во-первых, многие представители отечественной правовой науки «Теория государства и права» к понятию права подходят так же, как и в советские времена. Под «правом» они понимают систему норм, исходящих от любых органов государства, по существу, без учета принципа разделения власти. Основным субъектом правотворчества у нас до сих пор остается само государство. В этом случае, конечно, проблема конфликта между государством и правом не возникает и не может возникнуть по определению. Такая трактовка соотношения права и государства, где государство и только оно – творец права, в основном и сохраняется в отечественной теории государства и права до сих пор. Например, В.М. Сырых, раскрывая вопрос о понятии и признаках права, пишет: «Право представляет собой систему правил, установленных государством либо принятых в установленном им порядке населением либо негосударственными органами и организациями. Соответственно, государство выступает единственным социальным образованием, правомочным принимать, изменять или отменять правовые нормы» [5, c. 102]. Именно такое представление права до сих пор преобладает в отечественной правовой науке, и примеров на этот счет можно было привести немало. В то же время в постсоветское время появилось немало тех представителей науки «Теория государства и права», которые стали не только замечать необходимость проведения различия между государством и правом, но и обосновывать методологические основы такого различения, практическую пользу от этого. Довольно последовательно и обстоятельно это сделано в трудах В.С. Нерсесянца, в которых он, различая два типа правопонимания (юридический и ле-гистский типы) и отдавая предпочтение юридическому типу правопонимания, писал: «Для юридического типа правопонимания характерна та или иная версия (вариант) различения права и закона (пози- тивного права). При этом под правом (в той или иной форме) имеется в виду нечто объективное, не зависящее от воли, усмотрения или произвола законоустанавливающей (государственной) власти, т.е. определенное, отличное от других социальное явление (особый социальный регулятор и т. д.) со своей объективной природой и спецификой, своей сущностью, отличительным принципам и т. д.» [6, c. 137].
Государство и право стали разделять и многие другие представители постсоветской науки «Теория государства и права». Так, В.Д. Перевалов, характеризуя принципы социально-правового государства и выделяя при этом особый принцип приоритета права в общественной жизни, употребляет такие выражения, как: «государство не единственный источник формирования права»; «право возникло раньше, а поэтому носит более естественный характер, чем государство»; «связанность правом деятельности государственного аппарата» и т.д. [7, c. 348-349]. Подобные примеры разделения государства и права друг от друга в нашей теоретической правовой литературе можно продолжить и дальше.
Однако обращает на себя внимание то, что, даже обособляя государство и право друг от друга, упомянутые представители науки «Теория государства и права» вовсе не доходят до рассуждений о конфликте между правом и государством, то есть не проводят такого различия между правом и государством, как это делают зарубежные авторы и, в частности, уже цитированный нами Ж.-Л. Бержель. Иногда дело доходит до подробнейшего описания противоречий между государством и правом, но такое противоречие почему-то не называется конфликтом между государством и правом.
С.С. Алексеев в своей фундаментальной работе «Право: азбука–теория–философия: опыт комплексного исследования», подробно рассматривая соотношение права и власти, делает следующий вывод: «Но вот парадокс – политическая, государственная власть, которая и делает «право правом», в то же время явление в какой-то мере с ним не совместимое, выступающее по отношению к праву в виде противоборствующего, а порой чуждого, остро враждебного фактора» [8, c. 329]. Здесь С.С. Алексеев, по нашему мнению, хотя и подходит к понятию права в традиционном для советского периода духе, но выходит на позиции фактического конфликта между правом и государством. Несмотря на это понятием «конфликт между правом и государством» он не пользуется. Нельзя сказать, что С.С. Алексеев вообще не приемлет понятие «конфликт» в государственно-политической сфере. В этой же работе, раскрывая проблему, посвященную обоснованию роли права как центрального фактора общественных преобразований, пишет о внутригосударственных политических конфликтах [8, c. 548]. В дальнейших своих рассуждениях С.С. Алексеев уточняет то, что

мешает праву стать правом, перечисляет самые острые противоречия между правом и государственной властью. Перечисляя противоборствующие силы, мешающие реализации прав и свобод человека, куда он прямо относит и «политическую власть, которая сама по себе нуждается только в одном праве – в «праве власти» [8, c. 700], он избегает понятия «конфликт между правом и государством». Это противоречие, которое, по существу, является типичным, по меркам западных теоретиков права, конфликтом между правом и государственной властью, С.С. Алексеев не называет, как это делает, например, тот же Ж.-Л. Бержель.
Если же задаться вопросом о том, почему наши теоретики правоведения не употребляют понятие «конфликт между правом и государством», то ответ, на наш взгляд, является очень даже простым: в постсоветскую науку «Теория государства и права» такое понятие, по нашему мнению, просто еще «не добралось». На сегодня мы не обнаружили ни одной серьезной монографии, выполненной с позиций общей теории государства и права и посвященной проблеме осмысления конфликта между правом и государством, тема не освещается и в учебниках по «Теории государства и права».
В связи с этим в постсоветской юридической литературе наблюдается полнейшая разноголосица и разночтение относительно вопроса о конфликтах в государственно – правовой сфере. Так, некоторые представители юридической науки пишут о «государственно-правовом конфликте», не задумываясь даже о корректности такого понятия [9,18].
Некоторые, называя свое сочинение «Государственно-правовой конфликт» с самого начала раскрытия темы, не затрагивая даже названную в заголовке тему, переходят к ее раскрытию, связав с чисто политическими конфликтами. Само понятие «государственно-правовой конфликт» остается нераскрытым [10]. Такая же оплошность была допущена и автором настоящей работы (в соавторстве) в начальной стадии своей творческой деятельности [11, c. 28-30]. Действительно, понятие «государственно-правовой конфликт» нельзя признать корректным. Даже, на первый взгляд, такое понятие у нас теперь вызывает немало вопросов. В частности, понятие «государственно-правовой конфликт» сегодня звучит примерно также некорректно, как, например, если бы мы сказали: «общественнополитический конфликт» или же «социальноэкономический конфликт» и т.д. Поэтому мы сегодня считаем более корректным такие выражения, как «конфликт между правом и государством», «конфликты в государственно-правовой сфере», «конфликты в общественно-политической сфере» и т.д.
Далее довольно часто в юридической литературе встречаются такие понятия, как «конфликтное право», «коллизионное право» без их сравнительного ис- следования и оценки на предмет взаимозаменяемости, взаимодополняемости. Так, в Интернете, под общим названием «конфликтное право», «право сотрудничества» опубликованы статьи по предмету «Теория государства и права», где довольно подробно раскрывается понятие «конфликтное право». Здесь же дается и понятие конфликтного права. В частности, сказано, что «конфликтное право можно определить как систему обусловленных конфликтными отношениями в социуме юридических норм, содержащих негативные (ограничивающие) правовые средства, направленные на регулирование (упорядочение) конфликтных отношений между индивидами и организациями» [12, c. 16]. Авторы этого определения конфликтного права считают, что конфликтное право является особым типом правового регулирования. Однако трудно все же определиться в том, где авторы ведут речь о конфликтном праве, как отрасли права, а где о науке конфликтного права и т.д. Но, несмотря на эти «шероховатости» к подходу определения конфликтного права, последнее, на наш взгляд, приобретает все большее распространение.
В то же время нам нельзя забывать, что действующая Конституция РФ содержит еще понятие «коллизионное право» (ст. 72). Профессор Ю.А. Тихомиров коллизионному праву посвятил несколько своих научных работ [13,14]. Поэтому, если в юридической литературе встречаются и употребляются понятие «конфликтное право» и, одновременно, понятие «коллизионное право», то трудно не задаваться вопросом: как они соотносятся друг с другом?
Пытаясь разобраться в этом вопросе, мы в Интернете поставили его перед поисковой системой «Яндекс». Он вывел нас на публикацию, названную «Теория государства и права», которая имеет раздел «Коллизионное право», а чуть еще ниже и материал на тему под названием «Конфликтное или коллизионное право» [16]. Однако, даже довольно тщательное ознакомление этой публикацией не вывело нас на различительные параметры конфликтного и коллизионного права. Если сказать точнее, то здесь нет даже упоминания о конфликтном праве (кроме как в названии публикации), речь идет о коллизиях и о коллизионном праве. Но поскольку анализируемая нами публикация начинается со ссылкой на упомянутые труды профессора Ю.А. Тихомирова по коллизионному праву, то мы, для выяснения вопроса о соотношении конфликтного и коллизионного права, решили обратиться и к ним.
Ю.А. Тихомиров к вопросам коллизионного права обращается во многих своих работах, а не только в тех, на которые было указано. Но довольно обстоятельно исследуя проблемы, связанные с коллизионным правом, Ю.А. Тихомиров меньше всего обращается к природе и характерным чертам конфликтного права. Специально он не исследует и соотношение между коллизионным и конфликтным правом. Возможно, все это связано с тем, что и в
Конституции РФ упоминается лишь коллизионное право, а о конфликтном праве ничего не сказано.
В то же время, Ю.А. Тихомиров понятия «коллизия» и «конфликт» частенько употребляет, как нам показалось, в смысле чуть ли не тождественных понятий. Так, он пишет: «Действие закона зависит не только от внешних факторов – экономических, политических и других, но и от факторов самой правовой системы и системы законодательства. Отклонения, «сбои», ошибки, неприменение закона, изменения ситуаций, новые проблемы нередко порождают острые юридические коллизии и конфликты в стране» [15, c. 13].
Обращает на себя внимание и то, что профессор Ю.А. Тихомиров понятие «коллизионное право» использует не только для тех случаев, когда речь идет о противоречиях между нормативными актами, но и тогда, когда речь идет о противоречиях между властью и законом. Так, он пишет: «Проблема закона и власти – это вечная борьба двух антагонистов. Она понятна с древних времен и изложена на страницах древних трактатов. Но что это такое? Сначала нам казалось, что власть создает закон. Теперь мы считаем, что право, как таковое, и закон, в том числе, создают власть. Но никто не победит в этой дуэли, потому что не совсем понятно, каковы мысли, установки и внутренняя логика поведения человека, предпринимателя, депутата, госслужащего, любого юридического лица, гражданина в русле закона» [15, c. 14].
Все сказанное относительно конфликтного и коллизионного права свидетельствует об одном: наша общетеоретическая правовая наука только что проникает в сущность этих новых понятий, появившихся лишь в постсоветский период. Отсюда и видно, что проблем с их усвоением, теоретическим осмыслением еще много. По существу можно сказать, что наука «Теория государства и права» только приступает к раскрытию их сущностно-содержательных параметров.
Проблема, по нашему мнению, заключается в том, что постсоветская Россия и ее правовая наука все еще не сумели выйти на такое объяснение взаимодействия общества и государства, на такое соотношение права и государства, которые приняты в западных странах. Если как в демократических странах, где парламент, действительно, является верховной властью и от имени народа принимает законы, обязательные для исполнительной ветви вла- сти, то там все, что принимается парламентом, одновременно, является и правом и законам. Законом потому, что является нормативно-правовым актом, а правом потому, что содержит правила поведения, выражающие интересы народа. Там государство правовое, а поэтому должно действовать строго в рамках этого права. Если этого не происходит, то речь нужно вести о конфликте между правом и государством. Отсюда конфликт между правом и государством является естественным явлением. Иногда не следование государства по требованиям права и закона может свидетельствовать об отставании закона от требований времени и о необходимости его совершенствования. Но это также рассматривается как нормальное явление и при необходимости устраняется правотворческим путем. Ведь конфликт между правом и государством вполне может быть рассмотрен как фактор, способствующий благополучному развитию всего общества.
Таким образом, не все проявления конфликтов в государственно-правовой сфере можно и нужно, как это частенько приходится наблюдать в нашей обществоведческой литературе, рассматривать как исключительно негативное явление. Социальный конфликт, в том числе и в государственно-правовой сфере, нередко даже несет за собой позитивное изменение. Имея в виду именно это свойство конфликта, М. Дойч, ссылаясь на Л. Козера (признанного специалиста в области социального конфликта), пишет: «Конфликт часто вдыхает новую жизнь в существовавшие нормы или приводит к возникновению новых. В этом смысле социальный конфликт выступает в роли механизма для установки норм, соответствующих новым условия [17, c. 209]. С таким подходом к оценке конфликта трудно не согласиться. Нам в нашей отечественной науке «Теория государства и права» необходимо больше обращаться к зарубежной общетеоретической правовой науке, чтобы приблизиться к пониманию сущности конфликта между правом и государством, да и в целом к объяснению сущности конфликта в государственно-правовой сфере. Одновременно, нам юристам, необходимо больше обращаться к трудам представителей науки «Политология», чтобы глубже познать природу и сущность социальных конфликтов, в целом, и конфликтов в государственно-правовой сфере, в частности.
Список литературы Проблема конфликта в государственно-правовой сфере в постсоветской юридической науке
- Бержель Ж.-Л. Общая теория права / Пер. с фр. М., 2000.
- Дарендорф Р. Современный социальный конфликт: очерк политики свободы / Пер. с нем. М., 2002.
- Фридмэн Л. Введение в американское право / Пер. с англ. М., 1993.
- Жалинский А., Рерихт А. Введение в немецкое право. М., 2001.
- Сырых В.М. Теория государства и права: учебник. М., 2004.
- EDN: QVRQBD