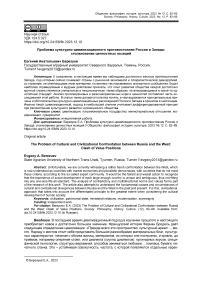Проблема культурно-цивилизационного противостояния России и Запада: столкновение ценностных позиций
Автор: Березуев Е.А.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 12, 2023 года.
Бесплатный доступ
К сожалению, в настоящее время мы наблюдаем достаточно жёсткое противостояние Запада, под которым сейчас понимают страны с рыночной экономикой и плюралистической демократией, со странами, не отвечающими этим критериям, по мнению так называемого экспертного сообщества. Будет наиболее справедливым и мудрым действием признать, что опыт развития общества каждой достаточно крупной страны является уникальным и неоднозначным, таким образом, не вписывающимся в какой-то однотипный стандарт. Анализ противоречивых и разнонаправленных норм и ценностей составляет часть исследований этой работы. В статье также делается попытка понять, в чём выражаются принципиальные причины и обстоятельства культурно-цивилизационных расхождений России и Запада в прошлом и настоящем. Именно такой, цивилизационный, подход в наибольшей степени учитывает дифференцированный принцип при рассмотрении культурного развития человеческого общества.
Цивилизация, патримониальное государство, министериальные отношения, модернизация, суверенитет
Короткий адрес: https://sciup.org/149144758
IDR: 149144758 | УДК: 124.5:327 | DOI: 10.24158/fik.2023.12.10
Текст научной статьи Проблема культурно-цивилизационного противостояния России и Запада: столкновение ценностных позиций
Введение . В последнее время цивилизационный подход в изучении прошлого и настоящего приобретает новое и достаточно большое значение. Французский историк Фернан Бродель даёт следующее определение цивилизации: «Прежде всего это пространство, культурный ареал…, место. Наряду с местом стоит себе представить большое разнообразие материальных благ, культурных характеристик, начиная с облика жилищ, материалов, из которых они построены, и кровли, до приёмов, например оперения стрел, или диалекта (группы диалектов), кулинарных вкусов, специфической технологии, структуры верований, способов заниматься любовью… компаса, бумаги, печатного станка. Это – устойчивая совокупность, частота, с которой появляются отдельные харак-
теристики, их распространённость в пределах отдельной конкретной области… и некоторое постоянство во времени» (Бродель, 1988). Такой подход, конечно, более приложим к отдельным, так сказать локальным цивилизациям, которые своим разнообразием форм проявления обеспечивают пестроту и многоаспектность современной жизни.
Взгляд на цивилизацию приобретает сейчас более глубокий и многомерный подход. В какой-то степени это связано с тем, что уже несколько лет в мире происходит кризис прежней так называемой однополярной политико-культурной системы, связанный с попытками навязывания Западом своей гегемонии. Современный мир отличается высокой динамичностью и некоторой нестабильностью протекающих политических и социально-экономических процессов. Нельзя отрицать, что глобализация всё интенсивнее охватывает различные части человеческой цивилизации, делая мир всё более взаимосвязанным.
Интересно, что в рамках цивилизационной парадигмы делались и делаются попытки объяснить (причём с научной точки зрения) то, например, чем Запад выгодно отличается от незападных стран, например, России; безусловно, такие попытки носят довольно высокомерный и уничижающий характер.
Актуальность . Последние два – три десятилетия наступившего столетия мы являемся свидетелями усиливающегося разногласия между странами так называемой западной ориентации в культуре и политике и государствами, отрицательно воспринимающими диктат Запада и пропаганду ценностей, вступающих в антагонизм с ценностями традиционными. Непонимание и неприятие в отношении своих партнеров демонстрируют обе стороны цивилизационного конфликта, отстаивая в первую очередь свои коренные культурные устои. В статье ставится задача рассмотреть некоторые проблемы и обстоятельства неприятия западной модели на примере исторических культурных противоречий, несоответствий России и Запада. В качестве одного из источников сравнения идеальных принципов и моделей взята работа Н. Фергюсона «Почему Запад отличается от остального мира» (Фергюсон, 2014). В основание противоречий положены ценностный и институциональный аспекты. Также использованы идеи Р. Пайпса, М. Блока, Д. Даймонда, Н.Я. Эйдельмана и др.
Методология . Исследование опирается на общефилософский подход, определивший методологию междисциплинарного исследования; философско-культурологическую методологию, способствовавшую осмыслению принципов и способов типологизации разных цивилизационных вариантов общества; философско-культурологические и историко-сравнительные методы, обусловившие возможность рассмотрения и сравнения ценностных позиций и институциональных основ западных и незападных обществ.
Ниал Фергюсон когда-то выпустил работу «Почему Запад отличается от остального мира» (Фергюсон, 2014). Ее название носит явно претенциозный характер и выдержано в духе европоцентризма. Автором постулируется главная мысль о том, что только Запад предназначен судьбой для того, чтобы господствовать в мире в силу его исключительных цивилизационных качеств. К некоторым заслугам Н. Фергюсона можно отнести мысль-признание, что Запад (как, впрочем, и другие цивилизации) не был идеален в своей основе, был способен (по утверждению автора) и на благородство, и на низость. Однако научные факты говорят сами за себя, отмечает Н. Фергюсон. Ни одна цивилизация прошлого не достигла такого уровня развития, как западная. И с этим довольно трудно поспорить: в 1500 г. будущие европейские империи занимали около 10 % поверхности земной суши и охватывали около 16 % населения планеты; однако к 1913 г. 11 западных империй контролировали почти 75 % суши и около 79 % мирового производства. Средняя продолжительность жизни в Англии была вдвое больше, чем в Индии. Уровень развития цивилизации во многом связан с городским укладом. Запад преуспел и в этом отношении. В 1500 г. крупнейшим городом на Земле был Пекин с населением около 700 тыс. чел. Из десяти немного уступавших ему только один был европейским. Это был Париж с населением менее 200 тыс. чел. (Фергюсон, 2014).
Некоторые историки высказывают мысль, что между Европой и Азией в начале XVI в. не было существенных различий. На самом деле различие существовало и состояло в том, что по отношению к Индии и Китаю Европа выглядела как отсталая, раздираемая междоусобными войнами территория с немногочисленным (по сравнению с Азией) населением. По теории И. Вал-лерстайна, это полупериферия (Валлерстайн, 2001).
В то же время возникают некоторые противоречивые утверждения. Н. Фергюсон в своих исследованиях опирался на работы разных авторов; в частности, он ссылается на Д. Даймонда, автора монографии «Ружья, микробы и сталь», который развивал мысль о том, что могучие и монолитные империи, занимавшие обширные равнины Восточной Евразии, душили проявления изобретательства и свободной мысли, а многочисленные монархии и города-государства Западной Евразии постоянно пребывали в состоянии творческой конкуренции и обмена. Позже и явнее конкуренция себя проявит в политической сфере общества Запада (Даймонд, 2017).
-
Н. Фергюсон сформулировал свою идею в виде уникальности и доминирования на Западе 6 групп универсальных институтов, к которым он отнёс следующие:
-
1. Конкуренция. Децентрализация политической и экономической жизни.
-
2. Наука. Способ познания мира, опирающийся на рационализм и опытные знания. Впоследствии именно наука позволила западным державам создать эффективные вооружённые силы.
-
3. Имущественные права. Верховенство права как способ защиты института частной собственности.
-
4. Медицина. Повышение срока и качества жизни индивида.
-
5. Общественное потребление. Производство стимулирует более качественное и увеличивающееся количественно потребление материальных благ.
-
6. Трудовая этика. Трудовой процесс облекался в оболочку религиозной доктрины (протестантизм).
Нам представляется интересным сравнить по некоторым этим параметрам пункты соответствия (или несоответствия), используя известную информацию из истории нашей страны, которая сейчас воспринимается западным миром в качестве антагониста. Не претендуя на максимально широкий охват данных элементов для сравнительного анализа, мы остановимся на некоторых из них. Наибольший интерес вызывают пункты первый и третий. Под конкуренцией автор понимает децентрализацию политической и экономической жизни, которая являлась важнейшим фактором строительства национальных государств и капитализма. Такая децентрализация, по мнению западных исследователей, была немыслима в России, которая формировалась как вотчинное государство. Далее мы более подробнее отметим основные свойства этого политического образования. Третий пункт непосредственно в случае России связан с наличием вотчинного государства и политической культуры на основании этики собственности в патримониальном государстве. Недостаточное развитие института частной собственности дополнялось этикой министериальных отношений, то есть службы недоговорного характера.
Что же обычно говорят, когда хотят отметить принадлежность данного общества к Западу как культурной системе? Какие ценности ставятся на ведущие позиции? Это:
-
1. Экономическая и политическая свобода, права человека.
-
2. Священная и неприкосновенная частная собственность.
-
3. Демократия.
-
4. Правовой характер общества, равенство всех перед законом.
-
5. Разделение законодательной, исполнительной и судебной власти.
Соответственно, для незападного общества характерны следующие особенности:
-
1. Ограничение личных свобод.
-
2. Примат общественной и государственной собственности над частной.
-
3. Авторитаризм в политике.
-
4. Неправовой характер общественных отношений, жизнь по традициям и «понятиям», а не по законам.
-
5. Концентрация власти в одних руках (Малков, 2007).
По всем этим пунктам Россия выглядит как незападное общество, и уже этот факт становится «камнем преткновения» в ее отношениях с Европой.
Мы построим рассмотрение противоречий между ними на выявлении некоторых особенностей видимых нами трёх проблем, которые мы выделили, исходя из разницы цивилизационных путей развития. Главное, они характеризуют или так называемое отставание России (трудности модернизации), или наиболее острые в восприятии элитами элементы культурного несоответствия (Березуев, 2022 а).
Проблема первая: отставание России от передовых стран Европы вследствие крепостного права, которое было частью военно-феодальной системы, возникшей в условиях необходимости защиты обширной территории при сравнительно немногочисленном населении . Данное отставание, безусловно, будет в дальнейшем вести к напряжению внутри российского общества, а в высших слоях – сохранять страх пугачевщины; в целом, это проблема социокультурного раскола общества, о котором писал историк А.С. Ахиезер (Ахие-зер, 1997). Замедленный путь модернизации, архаизация социальной системы негативно отразятся на общем состоянии российского общества.
В 1836 г. произошло событие, которое смело можно назвать началом размежевания между сторонниками сближения с Западом и его противниками. Им стала публикация в московском журнале «Телескоп» «Философического письма» П.Я. Чаадаева. Мыслитель дал весьма мрачную оценку исторического прошлого России и её роли в мировой истории; крайне пессимистически оценил возможности общественного прогресса в России1. Им было выражено в острейшей форме для восприятия людей того времени утверждение об отсталости и несовершенстве России, её культуры и политического строя по отношению к Западу. П. Чаадаев как предтеча непримиримых для российской действительности западников упрекает российскую элиту в отказе от стратегии реформ, которые могли бы быть спасительны для России.
Крепостное право было одним из основных критериев отставания страны (в утверждениях западников). Николай I, на годы царствования которого пришлись активные годы П. Чаадаева, предполагал провести ряд реформ, в их числе – ослабление, а затем отмену крепостного права. Десятки тайных проектов, а затем 11 секретных комитетов по крестьянскому вопросу. Из всех возможных вариантов освобождения крестьян обычно «вырисовывался» один – освобождение без земли, что грозило экономическими проблемами и даже пугачевщиной, призрак которой мерещился не одно десятилетие. Несмотря на то, что объем производства в николаевские десятилетия удвоился, и в России начался промышленный переворот (примерно в 30-е гг. XIX в.), страна оставалась крепостной, военно-бюрократической, самодержавной монархией. С другой стороны, Пруссия 1830–40-х гг. также знала крепостное право, которое сохранялось к востоку от Эльбы, а прусские помещики-юнкеры так же верно служили своему престолу, надеясь на свои корпоративные узы дворянского сословия. Надо признать тот факт, что многие страны Европы не знали крепостного права вообще (например, в Скандинавии), в других оно было отменено ещё в XII–XIII вв. Есть сведения о том, что при николаевской России имелся «запас прочности» – ещё лет 50–60 крепостное право, тормозя экономику, всё же не довело бы страну до полного голодного краха, ведь большинство крепостных хозяйств были середняцкими. Получается, что важную разрушительную роль сыграли обстоятельства не внутренние, а внешние.
Некоторые русские историки обратили внимание на тот факт, что иностранная интервенция может как вызвать мощную патриотическую войну, которая закончится безусловной победой над врагом (как война 1812 г.), но также может и обратить волну народного недовольства вовнутрь, против своего собственного правительства. Можно сказать, как отметил Н. Эйдельман, что англо-французы инстинктивно нашли тот вариант войны, который впоследствии воспроизвели японцы под Мукденом и Порт-Артуром: используя технические и организационные преимущества бить противника и не углубляться внутрь национальной территории (Эйдельман, 1989).
Абсолютная самодержавная монархия, опираясь на полицейский аппарат и систему помещичьего контроля, обеспечивала стабильность существующего порядка. Однако два события, несомненно, её поколебали. Это отметил английский историк Р. Пайпс в своей работе «Россия при старом режиме» (Пайпс, 1993); когда в 1762 г. дворяне были освобождены от обязательной государственной службы, то у крестьян этот шаг вызвал неожиданный порыв относительно возможного улучшения своей участи; они каким-то инстинктивным чувством понимали связь между обязательной государственной дворянской службой и своим крепостным состоянием; крестьяне стали ждать справедливого решения со стороны правительства – дальнейшего освобождения общества от наиболее жестоких форм и средств крепостной зависимости.
Второй эпизод был связан с неожиданным для всего русского общества поражением в Крымской войне. Перед этим широкие слои общества, воспитанные в духе теории С.С. Уварова, не находили возможным противопоставить свои интересы и цели государственным, но самое важное – наблюдалось широкое распространение монархических настроений среди небогатых, даже люмпенизированных слоёв общества. Однако когда Российская империя (как впоследствии это будет в 1905 г.) потерпела поражения на полях войны и продемонстрировала организационные провалы управления, произошёл надлом веры в могущество и незыблемость русской монархии. Тогда, в 1855 г., оставив Севастополь, правительство не пошло на широкое вооружение народа для отпора агрессору. По-видимому, как и в 1812 г., государство, опасаясь призрака пугачёвщины, не рискнуло, отказалось от идеи широкого вооружённого отпора, опирающегося на массовую крестьянскую армию.
Таким образом, крепостное право делало русское общество расколотым, сословно разделённым, держащимся на религиозно-державных атрибутах величия. Напомним, что в Крымскую войну главными противниками России были Англия и Франция. Первая – конституционная монархия, вторая – империя, но с сильными республиканскими традициями; крепостное право в этих странах было отменено в XIII–XIV вв. (не без широких крестьянских волнений), а промышленный капитализм в них уверенно развивался уже более 50 лет.
В целом, крепостное право было действительно большим злом, одним из главных препятствий для модернизации и ставило Россию в крайне уязвимую позицию по отношению к Западу, усиливая нарастающее между ними противоречие. Важно заметить, что в представлении просвещённых европейцев крепостное право в России воспринималось как проявление рабства, что создавало негативный фон отношений и довольно серьёзно принижало страну в глазах европейцев. Однако в то же время среди русских дворян всё больше возникало представителей оппозиционной ориентации, восхваляющих западный конституционализм.
Проблема вторая: патримониальный тип властных отношений, отсекающий общество от участия в государственной жизни . Место, где начало выкристаллизоваться Московское государство – это северо-восточные княжества бывшего Древнерусского государства. Эти земли были колонизованы, освоены по инициативе князей, то есть власть там появилась раньше общества и его структур (народное собрание и т.д.). Как следствие этого, земля этих территорий рассматривалась их князьями как исключительная собственность; обустройство аграрных площадей, строительство слобод и погостов – всё производилось по воле князя и исключительно на основании его интересов. Власть как бы предвосхищала активность населения. Государство, возникающее в таких условиях, – это патримониальное государство (от латинского pat-rimonium – собственность), данный тип государства определяется английским историком Р. Пайпсом как совмещающий власть и собственность в одних руках (Пайпс, 1993). По мнению французского историка Ж. Бодена, в Средние века в Европе было только два таких государства, как указывал этот учёный – сеньориального типа, – Турция и Россия (Боден, 2021).
Из сущности этого вотчинно-дворцового типа государства вырастает его интересный атрибут – министериальный тип социальных отношений. Министериалитет – это служба недоговорного характера. Обычный договор признаёт права и интересы обеих сторон. В данном случае присутствует полный приоритет только одной стороны.
Французский историк, основоположник школы Анналов Марк Блок в своей книге «Феодальное общество» отмечал, что в Западной Европе в силу уникальности географического ландшафта, развитой уже тогда городской среды и товарных отношений, сложился тип социальных связей для господствующего сословия, получивший название вассалитета (Блок, 2003) По сути, этот тип отношений основывался на договоре, обязательном для обеих сторон. Это устраняло такой элемент, как стихийный деспотизм сильных в отношении слабых. По мнению М. Блока, вассалитет опирался на юридический опыт со времён Римской империи и правовые нормы германцев с их природным пониманием справедливости (Рипуарская правда франков и т.д.). Более того, германская община обнаруживала, по мнению автора, больше уровня свободы, чем это было у других европейских народов (остальные во внимание не принимались). Также Блок с отменным вниманием указал на достаточное для того времени развитие юридических знаний и юридического опыта в рамках средневекового феодального общества; корпорация юристов была весьма популярна, и горожане прибегали к услугам адвокатов, сами активно судились по любым причинам. Правовой тип общественных отношений довольно рано сформировался в Западной Европе. Однако можно обнаружить весьма интересное обстоятельство. Институт вассалитета (в противоположность министериали-тету) появился вследствие слабости центральной власти, это была своего рода форма защиты против беспорядка при отсутствии сильной центральной власти.
Как отмечал ранее упоминавшийся Р. Пайпс, у русских князей, в отличие от западноевропейских королей, власть, начиная с XII в. была патримониальной. Порядок управления зависимыми людьми перешёл на практику управления государством. В этом «суперпоместье» великий князь, затем царь, сделался единственным господином, а его подданные – холопами, а земля и всё прочее доходное имущество – его (правителя) собственностью (Пайпс, 1993). Главный итог развития такой социальной системы – это крайняя пассивность гражданского общества, неразвитость горизонтальных социальных связей, монопольное право власти на принятие политических решений и реализацию экономических интересов. Возможно, недостаточно развитые социальные связи в условиях экстенсивного типа экономического развития предопределили директивный подход в управлении обществом со стороны государства. Данный тип отношений подкреплялся этикой этатизма, подкреплённой военно-бюрократическим характером государственной власти. Для политической элиты России патримониальная система власти не рассматривалась как ущербная или неправильная, поскольку она органически укладывалась в систему военно-феодального уклада общества.
Можно предположить, что ни один монарх Европы не обладал такой полнотой власти, соединённой с собственностью, как русские цари. По мнению Н.Я. Эйдельмана, российский царь имел куда больше власти над своими подданными, чем французский и английский; несколько попыток последних усилиться встречали столь крепкий отпор городов, парламентов, дворянства и народа, что в результате образовывалась равнодействующая, устраивающая обе стороны (Эйдельман, 1989).
Проблема третья: отсутствие выбора варианта развития для России в переходный период между Средневековьем и ранним Новым временем. Здесь речь идёт о выборе направления относительно ценностей государства или общества для наибольшего благоприятствования. Обычно историки, преимущественно евразийцы, говорили, что у средневековой России в качестве примера социально-политической модели могла быть только Золотая Орда с её крайней формой насилия и деспотизма.
Как ни странно, но альтернатива всё-таки была. Это, на наш субъективный взгляд, например, второе крупное государство Восточной Европы периода позднего Средневековья - Речь Посполитая. Страны, находящиеся по соседству, имеют реальную возможность перенять друг у друга цивилизационные черты, поменяться, образно выражаясь, судьбами. Конечно, как гласит расхожая сентенция, история не знает сослагательного наклонения, но мы позволим себе немного пофантазировать с известной долей реалистичного видения данной проблемы. Объективной возможностью была ситуация, при которой образуется конфедерация двух одновременно похожих и различающихся держав. С последующей линией развития по западному пути с той или иной степенью этого западничества. Напомним, что в городах Речи Посполитой существовало Магдебургское право, как в Западной Европе, обеспечивающее горожанам возможность самоуправления. Как и некоторые страны Запада, Королевство Польское и Великое княжество Литовское в качестве органа власти имели парламент - сейм, объединявший депутатов из обеих частей этого конфедеративного государства; территориально оно делилось на воеводства, земли, города и крепости с воеводами, кастелянами и старостами. Наследственные титулы были запрещены (республика всё-таки), хотя названия оставались, использовались. Среди польской знати были известны идеи эгалитаризма, любой безземельный шляхтич считал себя равным по статусу крупнейшему магнату. Наследственные титулы сохранились только в Литве, о чём упоминается в Люблинской унии; знаменитое семейство Радзивиллов оставило за собой титул князей, хотя на территории Польши тогда уже этот титул мало что значил. Со смертью в 1572 г. Сигизмунда II Августа пресеклась династия Ягеллонов, и с этого момента польские короли не имели наследственного права, но всякий раз избирались польской шляхтой. Первым среди них стал Генрих Валуа, который просидел на троне всего 118 дней, потом променял его на французский престол, на который взошел под именем Генриха III. В Польше его сменил Стефан Баторий, трансильванский князь. За Баторием последовали три крайне непопулярных монарха из династии Ваза. Последним из великих королей республики стал Ян Собеский, знаменитый победитель турок под Веной в 1683 г.
Если дать оценку политической структуре Речи Посполитой, то можно отметить, что это квазимонархическая олигархическая республика с очень сильным уровнем децентрализации. Такое устройство со временем сыграет свою одновременно зловещую и ожидаемую роль, превратив страну в нежизнеспособное государство. Любой шляхтич обладал правом вето, и это превращало государственную политику в неуправляемый процесс. Другой интересной особенностью было право на рокош, то есть на открытый и законный бунт против центральной власти в защиту шляхетской чести от мнимой или реальной деспотии, тем более что численность этого сословия была довольно велика по сравнению с дворянством соседних держав. Шляхтичи составляли порядка 10 % от всего населения, тогда как в Европе в среднем численность военной знати не превышала 2 % (Всемирная история ..., 2013). Состоятельность польской знати колебалась в широчайшем значении, однако все они считались примерно равными между собой. Такое олигархическое государство с элементами феодальной анархии являет собой противоположность централизованному патримониальному, основанному на нерушимой вертикали власти.
Польская культура была популярна в допетровский период в Московском царстве. Это позволяет предположить, что варианты сближения и смешения культурных моделей были не исключены. Правда, мы получили бы опять восточно-европейский вариант общества, в Польше было развито крепостное право, и европейские ценности носили ограниченный характер. При слабости центральной власти Речи Посполитой в случае объединения стран возникла бы рыхлая политическая структура, неразвитая этатистская модель, что для российского менталитета с его вотчинно-монархической системой власти не представлялось возможным. Такой проект был в высшей степени утопичным. Не стоит забывать, что за свой независимый нрав польская шляхта в XVIII в. заплатит утратой страной независимости.
Исторически Речь Посполитая стала антиподом Российского государства и своими политическими практиками послужила примером того, как может деградировать государственная власть. Своей агрессивной внешней политикой с иллюзорной идеей построения «суперконфедерации» во времена короля Владислава Польша стала триггером негативного восприятия Россией западных стран. Реальным положением дел было отсутствие альтернатив развития, так как Россия формировалась как империя - путём централизации власти и других ресурсов проводила расширение земель с постепенным вовлечением в свою культурную орбиту разных народов; также важной це- лью виделось отодвигание границ для обеспечения безопасности исторического центра. Сохранение суверенитета в непростых условиях враждебного окружения – основная цель, повлиявшая на ценностные и институциональные аспекты российской модели цивилизации.
Возвращаясь к идее централизованного царства, можно отметить, что простым объяснением российского деспотизма могла бы быть география: ещё Шарль Луи де Монтескье учил, что самые тиранические режимы утверждаются над большими пространствами (Монтескье, 1999). Однако надо признать, что даже в таких крупных государствах, как Испанская империя или Московское царство, существовали институты, ограничивающие власть монархов. Другое дело, какое направление будет преобладать в отношениях между властью и обществом – конституционное или бюрократическое. Военно-феодальный тип государства, основанный на необходимости противостояния сильным и опасным соседям, объясняет многие исторические процессы, в том числе и необходимость введения крепостного права, о чём ранее говорилось.
В своей научно-публицистической работе «Революция сверху» советский и русский историк Н.Я. Эйдельман выражает мысль, что процесс централизации России проходил в «ненормальных условиях». Борьба с Ордой и феодальной вольницей заложили тот жёсткий курс доминирования государства над обществом, который станет впоследствии частью российской политической культуры (Эйдельман, 1989). Ещё раз подчеркну – выбор общества в пользу этатизма и патернализма был обусловлен тяжёлым процессом выживания страны, находящейся на периферии европейской цивилизации и под тяжёлым прессингом царств-осколков Золотой Орды.
Итак, вот некоторые предполагаемые причины культурного конфликта России и Запада на цивилизационном уровне:
-
1. Разница ценностных ориентаций, характерных для обществ с той или иной степенью самостоятельности социальных групп; наиболее яркими ценностными проявлениями для русских земель становятся патернализм и монархизм широких слоёв населения; исторически в русских землях сложился в высшей степени этатистский вариант отношений между государством и обществом, что характерно для территорий, отдалённых от мировых культурных центров, то есть находящихся на периферии; российский путь развития – это создание централизованного государства, способного обеспечить суверенитет в условиях враждебного окружения и во имя этого были принесены в жертву многие материальные и иные ресурсы, включая личную свободу людей в доиндустриальный период.
-
2. Отсутствие механизма конкуренции в рамках социально-политических систем, о котором высказывал мысль Н. Фергюсон (Фергюсон, 2014), представляется важным проявлением цивилизационного несовпадения характеристик России и Запада. Монополизм в отношении властных полномочий повлиял на формирование аппарата власти в России, который на Западе оценивался как деспотический.
В заключение хочется отметить, что в нашей стране проводились социологические опросы относительно поддержки населением проведения жесткого имперского курса в России. Большинство членов общества поддерживают государство и вполне солидарны с выбранным политическим курсом, который выдержан в умеренных консервативных рамках. По-видимому, это связано с отсутствием поддержки политики модернизации и непониманием, граничащим с неприятием тех ценностей и идей, которые были популярны в высших кругах нашего общества в 90-е гг. прошлого века (Березуев, 2022 б). Граждане не испытывают горечи или разочарования вследствие конфликта России и Запада, напротив, в этом они видят проявление силы и державности, которые опираются на давние исторические традиции столкновения на геополитической карте мира.
Выводы.
-
1. Конфронтационные процессы между Россией и Западом носили и носят вневременной характер; разница цивилизационных векторов развития выражалась в несовпадении подходов к собственности и политическому управлению, отчасти это объяснялось различием централизатор-ских процессов в раннее Новое время; конфликт культурных ценностей и институциональных основ является серьёзным препятствием для нормализации отношений между Западом и Россией.
-
2. Как видно из сказанного, негативное восприятие европейцами России, которое сформировало тренд на изоляцию и вытеснение ее на периферию политико-экономической жизни, было связано с резким различием институционального устройства и самих ценностных ориентаций, некоторые из которых были сформулированы Н. Фергюсоном, например, конкуренция и монополизм, собственность частная и государственная.
Список литературы Проблема культурно-цивилизационного противостояния России и Запада: столкновение ценностных позиций
- Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта: в 2 т. М., 1997. Т. 1. 500 с.
- Березуев Е.А. К вопросу переосмысления теории модернизации в современной реальности // Общество: философия, история, культура. 2022 а. № 12 (104). С. 49-54. https://doi.Org/10.24158/fik.2022.12.7.
- Березуев Е.А. Новейший империализм и роль поддержки населением имперской идеологии: социально-философский анализ // Общество: философия, история, культура. 2022 б. № 10 (102). С. 43-49. https://doi.Org/10.24158/fik.2022.10.6.
- Блок М. Феодальное общество. М., 2003. 504 с.
- Боден Ж. Метод легкого чтения историй: в 3 т. М., 2021. Т. 2. Об устройстве государств. 559 с.
- Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм: в 3 т. Т. 2. Игры обмена. М., 1988. 592 с.
- Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб., 2001. 416 с.
- Всемирная история: в 6 т. М., 2013. Т. 3. Мир в раннее Новое время / отв. ред. В.А. Федюшкин, М.А. Юсин. 854 с.
- Даймонд Д. Ружья, микробы и сталь. М., 2017. 428 с.
- Малков С.Ю. Устойчивость социальных структур и цивилизационные особенности России // Информационные войны. 2007. № 3 (3). С. 14-45.
- Монтескье Ш. О духе законов. М., 1999. 673 с. Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. 424 с.
- Фергюсон Н. Цивилизация. Чем Запад отличается от остального мира. М., 2014. 764 с.
- Эйдельман Н.Я. Революция «сверху». М., 1989. 176 с.