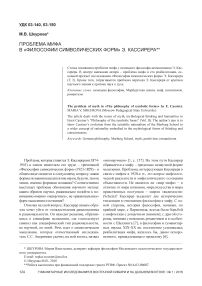Проблема мифа в "Философии символических форм" Э. Кассирера
Автор: Шкурова Мария Васильевна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 1 (35), 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме мифа у немецкого философа-неокантианца Э. Кассирера. В центре внимания автора - проблема мифа и его реабилитации, основной предмет исследования «Философия символических форм» Э. Кассирера (Т. 2). Кроме того, затрагивается проблема перехода Э. Кассирера от критики научного знания к критике наук о духе.
Немецкая философия, марбургская школа, миф, позитивизм, романтизм
Короткий адрес: https://sciup.org/170175625
IDR: 170175625 | УДК: 03-140,
Текст научной статьи Проблема мифа в "Философии символических форм" Э. Кассирера
Проблема, которая ставится Э. Кассирером (18741945) в самом известном его труде – трехтомной «Философии символических форм» (1923-1829) – в общем виде сводится к следующему вопросу: какие формы познания находятся вне науки, будучи, тем не менее, именно формами познания? Соответственно выступает проблема обновления научного метода: каким образом научно, рационально подойти к пониманию именно «ненаучных», не «рациональных» форм мышления и познания?
Отвечая на свой вопрос, Кассирер явным образом хочет уйти от отождествления рационализма и рациональности. Он находит решение, обратившись к специфике мышления, где господствует символ как специфический тип рациональности, не научной, но иной. Речь идет о символическом мышлении, которое отечественный исследователь С.С. Аверинцев удачно, на мой взгляд, назвал
«инонаучным» [1, c. 157]. На этом пути Кассирер обращается к мифу – предельно ненаучной форме мышления. Проблема, интересующая Кассирера в связи с мифом в 1920-е гг., это вопрос мифологической реальности и мифологического осознания объективности . Не является ли «мир мифа» - в отличие от мира познания, мира искусства и мира нравственных поступков – миром «видимости» (Schein)? Кассирер выделяет две исторических тенденции в отношении философии к мифу. С одной стороны, история философия, начиная, по крайней мере, с Парменида, всегда была борьбой с мифом (как с донаучным знанием); с другой стороны, начиная с немецких романтиков и в особенности с Шеллинга [7], в философии и гуманитарных науках XIX-XX вв. постепенно усиливалась реабилитация мифа, казалось бы, давно похороненного, принадлежащего прошлому [6].
Э. Кассирер посвящает проблеме мифа второй том (1925) своего трехтомного труда «Философия символических форм» (1923-1929). В предисловии он пытается «оправдаться» перед Кантом (ведь для кантианства познание - это только научное познание) и объяснить причины того, что миф должен быть изучен и понят.
Согласно Э. Кассиреру, миф – изначальная символическая форма, из которой происходят все другие символические формы – наука, язык, искусство; поэтому специфика и логика мифа существенным образом связана с логикой всех гуманитарных наук. Кассирер оппонирует обеим вышеупомянутым тенденциям отношения философии к мифу. При этом он не отвергает, но критически переосмысливает феномен мифа как предмет научно-философского анализа, избегая крайностей как рационализма Просвещения, так и романтического и постромантического иррационализма.
Против первой тенденции Кассирер утверждает, что исторически и систематически философия сопричастна мифу постольку, поскольку она самоопределяется через встречу не с «природой», но с мифом, не с «вещами» и «свойствами», но с «мифологическими силами и эффектами» [4, c. 14]. Даже когда философия (логос) освобождается от мифа и становится автономным исследованием в понятиях, то и тогда философия «…не в состоянии непосредственно отделить понятие мира от его духовных первооснов (Urgrund) и материнской почвы (Mutterboden)» [4, c. 14]. Так, например, понятие «архэ» («начало», «первоначало»), строго говоря, находится на «границе между мифом и философией», но здесь нет какого-то абсолютного отграничения, скорее это «точка перехода и неразличения» [4, c. 14].
По мере того, как оба «мира» – мифа и логоса – исторически отделялись друг от друга, в научной философии и религиоведении все больше заявляла о себе тенденция – «утвердить один из них в качестве предварения другого и тем самым оправдать его» [4, с. 15]. Согласно этой точке зрения, миф есть некоторая образная фикция, фантазия, но такая, которая заключает в себе некоторое рациональное зерно, «рационально познаваемое содержание – его-то и следует извлечь из фактического разнообразия мифологическим образов в качестве подлинного ядра мифа» [4, с. 15]. Так, по мысли Кассирера, возник «аллегорический» метод (сравнение понятий посредством образов), начиная с V века до н.э., т.е. с эпохи греческого «Просвещения»: миф – это облачение, которое надо «снять», т.е. переложить на понятный язык софистики и риторики – язык «популярной философии». Против этой тенденции, по мнению Кассирера, выступил уже Платон как оппонент софистов: миф у него – «определенная и необходимая на своем месте функция постижения мира» [4, с. 16]. В этом направлении, но, конечно, на других философских основаниях, понимает свою задачу исследования и критики мифа сам Э. Кассирер, который отмечает, что, начиная со стоиков и неоплатоников, истолкования мифа свернули «на старую дорогу спекулятивно-аллегорического толкования мифа» [4, с. 16], и это стало наследием и традицией как Средневековья, так и Возрождения.
Согласно историко-систематическому рассмотрению феномена мифологического мышления – предварительного анализа, на основе которого Э. Кассирер формулирует проблему и задачу своего исследования, - миф снова становится проблемой философской и научной мысли уже в Новое время, но теперь уже существенно по-новому, а именно – под углом зрения сознания, субъективности; миф теперь понимается как «некоторая изначальная тенденция духа» [4, с. 16]. По замыслу автора, «Философия символических форм» в целом – это попытка «представить миф как единую энергию духа» [4, с. 246]. Как это понимать?
Философ говорит о категориях мифологического мышления не как о застывших «схемах духа», но как о направлении развития мифа. Кассирер пытается увидеть за множеством мифологических образов «единую творящую силу и закон, по которому эта сила действует». Функция мифологического творчества порождает все новые образы, миф не может выразить себе иначе, как через мир образов . Кассирер, таким образом, рассматривает миф как определенную «духовную» форму в общем проблемном контексте гуманитарных наук («наук о духе»). Тем самым проблема «мифа» (как и всех других «символических форм») явным образом переносится в плоскость социально-исторического опыта, того, что в немецкой традиции называется «духовной историей» (Geistesges-chichte). В данном контексте Э. Кассирера, как уже говорилось, интересует в первую очередь история взаимоотношений философии с мифологией.
Согласно Э. Кассиреру, подлинным инициатором философии мифологии (как и философии языка) Нового времени был итальянский мыслитель и ученый Джамбаттиста Вико (1668-1744), который увидел в мифе не предварительную стадию научно-рационального мышления, но составную часть духовной деятельности вообще, а именно – триединство языка, искусства и мифа [4, с. 16]. Но систематической ясности и полноты проблема мифа, на взгляд Э. Кассирера, достигла только на рубеже XVIII-XIX вв., в исторический момент социальной, как и научно-философской, революции, а именно – «в основах науки о духе, заложенных философией романтизма» [4, с. 16]. Кассирер ссылается на знаменитый фрагмент «Первой программы системы немецкого идеализма» (1796), записанный рукой Гегеля, озаглавленный и прокомментированный Ф. Розенцвейгом в 1917 году [2, c. 211-213]. В центре этого документа, представляющего собой коллективное авторство трех студентов Тюбингского теологического института – Шеллинга, Гегеля и Ф. Гельдерлина, - идея «мифологии разума», сформулированная (как предположил Ф. Розенцвейг, за которым в этом отношении следует и Кассирер) скорее всего, Шеллингом.
Согласно Э. Кассиреру, лекции по «философии мифологии» Шеллинга знаменуют собой радикальный поворот в истории осмысления мифа и мифологического сознания – поворот к «чистому качеству и содержанию мифа» [4, c. 17], в противовес прежним аллегорическим, психологизированным интерпретациям. Именно Шеллинг радикально переосмыслил взаимоотношение между «мифом» и «разумом»: в более или менее презираемом рационалистической философией мифологическом мышлении, «…в этом кажущемся неразумии надо открыть разум, в этой кажущейся бессмыслице – смысл, причем не так, как пытались делать прежде, когда, рискуя считать что-то разумным или осмысленным, именно это провозглашали существенным, все же остальное объявляли случайным, относящимся к облачению или искажению сущности» [7, c. 265]. Но и подход Шеллинга к мифологическому мышлению тоже не удовлетворяет Э. Кассирера.
По мысли Кассирера, «идеалист» Шеллинг, хотя он исходит из Канта, но уходит от Канта в спекулятивный идеализм. Шеллинг важен не потому, что он «решил» проблему мифа, но потому, что он ее по-новому поставил: «Не предметное содержание мифологии, а интенсивность, с которой оно переживается, с которой в него <…> верят , - вот что составляет проблему», – утверждает Кассирер [4, c. 18]. Иначе говоря, «чистым качеством и содержанием» мифа оказывается уже не то, о чем миф, не его предметное содержание, но характер или, как еще говорит Э. Кассирер, «феноменология» внутреннего взаимоотношения между предметом рассказа (греческое слово «миф», как известно, и означает «рассказ», «фабула») и мифологическим сознанием.
В отдельном примечании [4, c. 39] Э. Кассирер отмечает роль феноменологии Э. Гуссерля в современной философии: феноменология вернула остроту зрения при восприятии разнообразия духовных «структурных форм» и указала для их анализа новый путь постановки вопроса и методологии. Уместно отметить здесь общий для неокантианства и феноменологии пункт – отталкивание от «психологизма», т.е. от психологического размывания смысла «феноменов», с которыми имеет дело творческое (конструктивное) сознание. Кроме того, для Кассирера особое значение феноменология имеет постольку, поскольку она не ограничивается анализом познания, но переносит свое основное открытие «интенционального» (знакового и значимого) характера сознания на совершенно различные предметные области бытия и культуры.
Эпохальное достижение лекций по «философии мифологии» Э. Кассирер видит в том, что Шеллинг – первый, кто понял отношение человека и сознания к богам или к Богу как нечто совершенно реальное и активное, тогда как «вся предшествующая философия знала только “религию разума”, а всякое религиозное развитие понимала как развитие в идее, т.е. в представлении и мышлении» [4, c. 21]. Это соображение не только подводит Кассирера к собственной постановке проблемы «мифологического мышления»; здесь любимый ученик Г. Когена тактично, но твердо размежевывается со своим философским наставником, чей посмертно опубликованный труд назывался «Религия разума из основ иудаизма» (1918), а отчасти расходится он и с кантовским пониманием религии «в границах только разума» [3].
Э. Кассирер, таким образом, размежевывается с классическим рационализмом внутри собственной (неокантианской) традиции, но не для того, чтобы поддаться иррационалистической тенденции, а для того, чтобы – и такова, можно сказать, сверхзадача всей его трехтомной «Философии символических форм» – распространить принцип рациональности за пределы «рационализма» и за пределы чисто теоретического мышления.
Итак, в своей постановке проблемы «мифологического мышления» Э. Кассирер дистанцируется как от «религии разума» в понимании Г. Когена, так и от «мифологии разума» в духе немецкого идеализма и романтизма (включая эпигонов и продолжателей «иррационализма» Шеллинга в современной Кассиреру «философии жизни» ХХ в.). Другими словами, автор «Философии символических форм» оказывается не «по ту», а «по эту» сторону философии Канта, в которой установка на «критику» познания отчетливо и принципиально противостоит всякой метафизике и всяким «духо- видцам», одержимым идеей абсолютного знания, безотносительного к «опыту». Проблема «мифологического мышления» формулируется Э. Кассирером в виде следующего вопроса: «Каким же может быть “опыт”, с чьей помощью была бы подтверждена достоверность мира мифа и который бы дал мифу возможность удостоверить свою в некотором роде объективную истину, предметную релевантность?» [4, c. 23].
Ставя вопрос таким образом, философ отчетливо сознает историко-систематическое место, которое занимает его «критический метод» в истории изучения мифологии. Это место – «между метафизически-дедуктивным и психологиче-ски-индуктивным методом» [4, c. 24], т.е. между спекулятивной философией начала XIX в. и «этнической психологией»1 второй половины XIX в. В более общей историко-систематической связи Кассирер помещает проблему «мифологического мышления» между метафизикой и психологизмом, не желая делать уступок ни той, ни другой форме мышления – и постольку оставаясь верным Канту и неокантианству.
Свой подход к мифологическому сознанию Э. Кассирер определяет как «критическую феноменологию» [4, c. 26], противопоставляя его, с одной стороны – философскому идеализму Шеллинга, с другой – «антропологическому» подходу, наиболее отчетливо представленному в философии религии Л. Фейербаха (1804-1972). Если для Шеллинга мифология истинна постольку, поскольку она выражает «реальное отношение человеческого сознания к богу» [4, c. 25] (богу-абсолюту, который только меняет форму своего бытия), то Фейербах и его последователи, по мысли Кассирера, за объяснительный принцип принимают «эмпирически-реальное единство человеческой природы» [4, c. 26]: в мифе и в религии, по Фейербаху, человек проецирует на бога и высшие силы свои собственные нереализованные силы и потребности. В противоположность обеим этим тенденциям, Э. Кассирер понимает миф как актуальную «форму или функцию» человеческого сознания. Миф не абсолютная истина, но и не разложение истины в антропологии и психологии. Объективность мифа – не в наивном отражении «действительности», но в «особом типичном способе построения образа, в котором сознание выходит за пределы простого воспроизведения чувственных впечатлений, а начинает противостоять ему» [4, c. 27]. Мифологическое мышление, таким образом, – это относительно самоценная творческая форма «духа», не укрощенная историей и цивилизацией.
Этот ход мысли важен с точки зрения последующего понимания мифа Кассирером, находящимся уже в эмиграции в 1930-1940-е гг., когда «мифологическое мышления» обнаружило в тоталитарных режимах эпохи свои деструктивные, антикультурные и античеловеческие возможности.
В плане эпистемологии гуманитарных наук постановка проблемы мифологического мышления Э. Кассирером противостоит, с одной стороны, иррационалистическим попыткам рассматривать миф как некую абсолютную форму мышления, растворяющую в себе все другие формы мышления (науку, искусство, нравственность), а с другой стороны – позитивизму и «сциентизму», вообще линейно-прогрессистскому пониманию взаимоотношения мифа и науки, прошлого и настоящего и т.п.
Кассирер в своей постановке вопроса ссылается еще на одного философа XIX в., на О. Конта с его концепций «трех стадий» познания. Проиллюстрируем в заключение парадокс, к которому привела, по мысли Кассирера, попытка Конта оставить миф в прошлом в перспективе светлого будущего, в котором, по его мнению, станет возможным научно управлять миром совершенно рационально и научно ради свободы «человечества».
Согласно О. Конту, человечество проходит три стадии своего развития: «теологическую», «метафизическую» и «позитивную». Цель науки, по Конту, состоит в исследовании законов, ибо только знание законов дает возможность предвидеть события, направить нашу активность по изменению жизни в нужном направлении [5, c. 186]. Основной целью «позитивизма», как его понимает Конт, является отделение строгой науки от примесей мифологии и метафизики. Наука Нового времени, по Конту, преодолела миф – по мнению Э. Кассирера, это далеко не так: «…оказывается, что борьба, которую теоретическое познание, как ему казалось, победоносно завершило, постоянно разгорается вновь. Теперь познание обнаруживает противника, казалось бы, побежденного навсегда, уже в своих собственных рядах» [4, c. 11].
Ошибка Конта, считает Кассирер, позволяет понять миф не в узко историческом смысле, а как вечный элемент познания. Сознание способно преодолеть только то, что постигло, а не просто выдворило за свои пределы. Наука должна уберечь себя от растворения в мифе; миф - интуитивная форма познания и постольку он остается вечным соперником, не преодоли- мым наукой, которая сама никогда не свободна от внерациональных элементов, которые могут подпитывать, но могут и разрушать научно-философское мышление.
Таким образом, можно сказать, что Э. Кассирер уже в 1920-е гг. поставил проблему мифа в том виде, в каком он будет развивать ее, в модифицированном виде, в последующем своем творчестве. С одной стороны, он говорит о необходимости преодоления мифа средствами научного познания, но с другой стороны – о необходимости сохранения мифа как той «инонаучной», интуитивной, «слишком человеческой» сферы или среды, которая питает также и научное познание как в гуманитарных науках, так и в естествознании.
Список литературы Проблема мифа в "Философии символических форм" Э. Кассирера
- Аверинцев С.С. Символ//Аверинцев С.С. София-Логос: Словарь. Киев, 2001.
- Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1970.
- Кант И. Религия в пределах только разума (1793)//Кант И. Трактаты и письма. М.: Наука, 1980. C. 78-278.
- Кассирер Э. Философия символических форм: В 3 т. Т. 2/Пер. с нем. С.А. Ромашко. М.; СПб.: Университетская книга, 2002.
- Антисери Д., Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней: В 4 т. Т. 4: От романтизма до наших дней. СПб.: Пневма, 2010.
- Резвых П.В. Дискуссии о мифологии в романтической Altertumswissenschaft (препринт). М.: ВШЭ, 2012.
- Шеллинг Ф.В.Й. Введение в философию мифологии//Шеллинг Ф.В.Й. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1989. C. 159-386.
- Шпет Г.Г. Введение в этническую психологию (1927)//Шпет Г.Г. Philosophia Natalis: Избранные психолого-педагогические труды/Под ред. Т.Г. Щедриной. М.: РОССПЭН, 2006. С. 417-500.