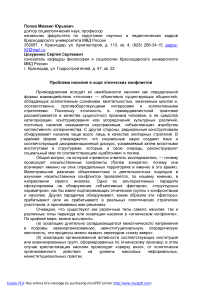Проблема насилия в ходе этнических конфликтов
Автор: Попов Михаил Юрьевич, Цокуренко Сергей Сергеевич
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 1, 2008 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена социально-философскому анализу современных научных подходов к анализу причин этнических конфликтов, провоцирующих их переход в насильственную фазу. В ней также предпринята попытка систематизировать различные подходы исследователей к эскалации, а также прогнозированию этнических конфликтов, к определению конфликтной ситуации.
Этнос, межэтническое напряжение, эскалация этнических конфликтов, насилие
Короткий адрес: https://sciup.org/14932670
IDR: 14932670
Текст научной статьи Проблема насилия в ходе этнических конфликтов
Примордиализм исходит из неизбежности насилия как определенной формы взаимодействия «этносов» — объективно существующих общностей, обладающих коллективным сознанием, ментальностью, жизненным циклом и, соответственно, противоборствующими интересами и коллективными стратегиями. Поскольку этничность в примордиалистской трактовке рассматривается в качестве сущностного признака человека, а не средства категоризации, конструирования или упорядочения культурных различий, постольку насилие оказывается неустранимым, «объективным» атрибутом коллективного соперничества. С другой стороны, радикальный конструктивизм обнаруживает насилие чаще всего лишь в качестве элитарных стратегий. В крайней форме утверждается, что социальные науки создают язык и соответствующий дискриминационный дискурс, усваиваемый затем властными институтами и структурами, которые, в свою очередь, реконструируют социальный мир по соответствующим «шаблонам» и логике.
Общий вопрос, на который стремятся ответить исследователи, — почему происходят насильственные конфликты (более конкретно, почему они возникают именно на этих определенных территориях и именно в это время). Магистральное различие объективистских и деятельностных подходов в изучении насильственных конфликтов проявляется, по нашему мнению, в направлении самого анализа. Одна из альтернативных парадигм сфокусирована на обнаружении «объективных факторов», «структурных параметров», как бы извне подталкивающих этнические группы к конфронтации и насилию. Другая парадигма обнаруживает, каким образом эти «факторы» срабатывают (или не срабатывают) в реальных политических стратегиях участников, в принимаемых ими решениях.
Очевидно, что существуют как различные типы самого насилия, так и различные типы перехода или эскалации насилия в «этническом конфликте». По крайней мере, можно вычленить:
-
(а) эскалацию длительно складывающегося межэтнического напряжения в погромы, квазиорганизованную, неинституциональную, спорадическую жестокость; эти процессы можно назвать переходом «снизу вверх»;
-
(б) эскалацию организованной активности соответствующих институций или военизированных групп, сформированных по этническому признаку; в этом случае кристаллизация насилия происходит «сверху вниз», от политически организованного действия на уровень массовых неформальных, неинституциональных практик.
Почему одна и та же военно-политическая акция (например, ввод войск) может иметь диаметрально противоположные результаты — от подавления насилия к его развертыванию? Представляется, что значительно более важными переменными, которые здесь — на этапе уже начавшегося ввода войск — присутствуют, являются:
-
(а) то, как воспринимается ввод войск в зону конфликта (со всеми привходящими и влияющими на такое определение акции факторами — от сложившихся фобий до конкретного поведения (в том числе — символического) этих войск;
-
(б) то, кем и каким образом осуществляется такое определение — то есть каким образом структурирован, организован субъект этих определений. Проще говоря, наличествует или нет «инфраструктура сопротивления» подобному вводу войск.
Здесь мы должны рассмотреть специфику релятивистского подхода к эскалации этнических конфликтов. Релятивистский подход рассматривает те определения ситуации, которые лежат в основе складывавшихся насильственных стратегий. Каким образом возникает «ситуация коллективной угрозы» для каждой из сторон, как это ощущение угрозы трансформируется в конкретные действия, какие сложившиеся ранее образцы поведения используются, кто является выразителем общего чувства опасности и на основании каких мотивов, какие средства групповой поддержки при этом используются и как осуществляется коллективная мобилизация, в какой момент и в каких формах насилие превращается в самостоятельный конфликтогенный фактор — при анализе любой конкретной ситуации важно ответить именно на эти вопросы, а не заменять такое исследование идентификацией якобы «ключевого фактора» (который может и не действовать в актуальных переходах к насилию).
Необходимо сосредоточиться на анализе того, как определяется ситуация каждой из вовлеченных сторон, как интерпретируются действия «другой стороны» во временнoй перспективе.
Важно, что оба типа действий осуществляются в пределах определенного «значимого времени». Эти пределы, когда этническим элитам нужно попытаться определить ситуацию не только в проективно-гипотетическом смысле, а практически, задаются различными обстоятельствами. Например, «фактический контроль необходимо восстановить до даты проведения незаконных выборов», или «до момента, когда будет принят тот или иной законодательный акт», или «в пределах времени, когда данное действие воспринимается в связи с предыдущим действием другой стороны — и поэтому рассматривается как спровоцированный и оправданный ответ на него».
Некоторые исследователи пытаются объяснить развертывание конфликта действиями небольших группировок фанатиков [16]. Однако наличие или отсутствие таких группировок само нуждается в объяснении. Почему в одном случае фанатики оказываются маргиналами в среде своих «соплеменников», рискующими встретить моментальный отпор со стороны их абсолютного большинства, а в другом случае они — эти фанатики — оказываются «эталонами», «героями», действующими в контексте «недеятельной», но явственной солидарности и поддержки? Каким образом формируется «неадекватно реагирующая аудитория» для инициирующих акций фанатиков?
Эти вопросы сегодня особенно актуальны при анализе причин и социальных эффектов терроризма (как одной из форм этнически сопряженного насилия). Оставляя эту тему для отдельного исследования, отметим важную роль СМИ в качестве инструмента, создающего абсолютно новую взаимную конфигурацию «интерпретативных стратегий» и агентов, вовлеченных в конфликт. Образно говоря, СМИ способны придать событиям локального уровня эффект символических «макрособытий»: отсюда становится возможным единичной акцией, «прочитанной непропорциональным количеством моментально вовлеченных агентов», в корне изменить ход событий на институционально-политическом уровне.
Важно, что без анализа «интерпретативных стратегий» и того, как именно воспринимается событийная фактура вовлеченными сторонами — их взаимные угрозы/риски и маневры по обеспечению безопасности, весьма затруднительно определить «время Х», когда конфликт перейдет в насильственную фазу. Исследование «объективных» предпосылок конфликта позволяет описать только вероятностный контекст этого возможного перехода. Изучение же самих интерпретаций и их влиятельных субъектов показывает, каковы модели перехода, как он будет развернут в актуальных политических стратегиях. Чем более тщательной и детальной оказывается описание такого вероятностного контекста, тем более мы приближаемся к точности конфликтологического прогноза.
Рассмотрим возможности такого прогнозирования конфликтов. Здесь также очевидным будет концептуальное противостояние двух основных подходов. Примордиалистский подход в данном случае ярко представлен региональными приложениями таких различных концепций, как теория этногенеза Л.Н. Гумилева (конфликтуют «некомплементарные» народы, находящиеся на различных фазах этногенетического развития и обладающие разным уровнем пассионарности), теория «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона (сталкиваются народы христианские и мусульманские), а также формационно-модернизационная теория (конфликты обусловлены отставанием некоторых локальных этнических обществ в развитии социальной структуры).
Конструктивистская (и шире, модернистская) парадигма представлена тезисом о продуцировании конфликтов соответствующими стратегиями этнических элит, сконструированных во многом самим российским/советским государством. Конфликтная ситуация описывается зачастую в стиле «массовой иллюзии», создаваемой, например, лидерами сепаратистов в среде собственного народа (если сепаратистская претензия обращена к демократической государственности и гражданской прото-нации, от имени которой говорит конструктивист). Или, наоборот, как результат неадекватной, дискриминационной политики властей в отношении этнического меньшинства, если эти власти идеологически чужды конструктивисту.
Этносоциологический подход, стремящийся «обосновать» (т.е. объяснить) те или иные стратегии элит через рассмотрение истории межэтнических отношений и сложившихся в них культурных паттернов, занимает «умеренно примордиалистские» позиции. Это связано с тем вниманием, которое уделяется (в частности, при исследовании межэтнического насилия) анализу «реальных» национальных историй, сложившихся культурных дистанций и стереотипов.
Особенность релятивистского подхода состоит в акценте на исследовании интерпретативных стратегий — того, как они разрабатываются различными агентами (в том числе — элитарными) и осуществляются в различном социально-политическом или историческом контексте.
Определение конфликтной ситуации. Оно связано с очерчиванием территории, которая воспринимается как «домен исключительного этнического доминирования» различными группами. Исключительность может основываться на разных критериях — титульности, автохтонности, численном преобладании. Территориальный сюжет присутствует в осетино-ингушском, осетино-грузинском конфликтах, в кабардино-балкарской, лезгиноазербайджанской, казаче-горских конфликтных ситуациях (Кизляр, Наурский и Шелковской районы) и т.д. Все территории, на которых происходила смена или отмена «титульности» проживающих здесь групп, представляют собой площадку для формирования конфликтной ситуации. Но титульность не единственный «критерий» для номинирования групп-в-конфликте. Этнические группы, выступающие в конфликтной ситуации, очерчиваются вокруг оппозиции «титульные-нетитульные», «коренные-пришлые», «большинство-меньшинство». Ясно также, что реальная территория как предмет конфликта может быть замещена «символическим пространством», сопряженным с привычным образом жизни или с комплексами престижных социальных позиций. Определенность «сторон» может иметь исторически устойчивый характер или же, напротив, возникать как результат событий новейшего времени. Исторически устойчивая определенность связана обычно с привычными идентификациями этнических групп и, как показывает конструктивистская традиция на примере России-СССР, усилиями государственных институтов по классификациям и территориализации этничности. На Северном Кавказе идентификация сторон потенциальных или актуальных конфликтов формируется по нескольким линиям: титульные-нетитульные, коренные/автохтонные-некоренные, старожилы-мигранты и, наконец, репрессированные и нерепрессированные группы.
Соперничество за коллективный статус остается номинальным, пока конфликтная матрица не наполнена «энергетикой» социальных проблем, связанных с жильем, работой, образованием и безопасным будущим для детей. Другими словами, конфликтный динамизм придается номинальному статусному соперничеству через исчерпание или дефицит каналов вертикальной социальной мобильности. Исподволь зреющие или катастрофически возникшие социальные проблемы можно назвать «смысловым динамическим наполнителем» конфликтной матрицы. В то же время определенная жесткая версия «этнического баланса» в течение некоторого времени нейтрализует конфликтные стратегии. Стабильные 1960-1970-е гг. характеризовались устойчивостью определенного паттерна отношений (например, неформального распределения статусных позиций между представителями групп или привычного этнического доминирования в структуре многосоставного населения). Устойчивость наличного паттерна определяется уровнем лояльности в отношении его институционально-правовых или идеологических оснований.
Статусная конфликтная матрица создает спрос на определенную идеологическую деятельность — производство национальных историй, «открытия» и интерпретации архивных данных, оживление «коллективных травм», таких, как память о Кавказской войне, депортации и т.д. Здесь также очерчиваются возможные образцы «разрешения противоречий» — фактически модели эволюции конфликта (к насилию или ненасильственной реконфигурации сторон в конфликтной ситуации).
Уже на этапе определения конфликтной ситуации наличествуют три аспекта: (а) исторически сформировавшаяся конфликтная матрица, (б) идеологическая активность культурно-идеологической элиты и (в) фактура социальных проблем, продуцирующая планы на будущее и связанные с ними риски.