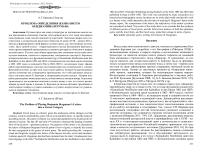Проблема определения жанра писем Бенджамина Бергмана
Автор: Баянова Александра Тагировна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 2 (61), 2022 года.
Бесплатный доступ
Путевая проза как жанр литературы на протяжении многих веков претерпевала изменения. Каждая эпоха привносила в этот жанр свои формы повествования, свой способ описаний путешествий. Эволюция жанра шла в соответствии с историческим развитием общества. В конце XVIII - начале XIX в. началось формирование такой формы путевой прозы, как эпистолярное путешествие. Цель данной статьи - охарактеризовать письма Бенджамина Бергмана с точки зрения жанровой принадлежности, выявить критерии их отнесения к жанрам путевой прозы. В статье дана общая характеристика сочинения писем известного путешественника, писателя и переводчика, лютеранского пастора Б. Бергмана, которые включены в его фундаментальный труд «Nomadische Streifereien unter den Kalmuken in den Jahren 1802 und 1803» («Кочевнические скитания среди калмыков в 1802-1803 годах»), изданный в Риге в 1804-1805 гг. на немецком языке. Данная работа рассматривалась многими исследователями как исторический и этнографический источник, но при этом отсутствуют работы, которые бы рассматривали данное сочинение как литературное произведение, что и обуславливает актуальность изучения писем Б. Бергмана в литературоведческом аспекте. Автором подробно рассмотрены композиция писем, субъективность позиции автора. Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что синтез разных жанров путевой прозы в письмах Б. Бергмана (а письма обладают признаками и эпистолярного жанра, и путевого дневника, и путевого очерка) делает их уникальными в жанровом отношении.
Эпистолярный жанр, письмо, путевая проза, б. бергман
Короткий адрес: https://sciup.org/149140462
IDR: 149140462 | DOI: 10.54770/20729316-2022-2-430
Текст научной статьи Проблема определения жанра писем Бенджамина Бергмана
Вклад известного религиозного деятеля, писателя и переводчика Бенджамина Бергмана (см. подробнее о его биографии в [Митруев 2020]) в калмыковедение огромен, в первую очередь в исследование калмыцкого фольклора: он является автором самого раннего перевода на немецкий язык калмыцкого героического эпоса «Джангар». К сожалению, до сих пор не известно, как осуществлял работу Б. Бергман: была ли предварительно осуществлена запись исполнения эпоса, а затем уже - перевод или все-таки он сразу зафиксировал краткое содержание эпической песни на немецком языке. Однако до настоящего времени не обнаружено каких-либо записок, черновиков, которые бы подтверждали первую версию. Фольклорные изыскания Б. Бергмана рассматриваются в научных работах И.В. Кульганек [Кульганек 2008, 11], Б.А. Бичеева [Бичеев 2018, 145], Б.Л. Митруева [Митруев 2021а; Митруев 2021b] и др.
Б. Бергман известен не только тем, что первым открыл эпос «Джангар» европейскому миру, но и также и тем, что он издал фундаментальный труд «Nomadische Streifereien unter den Kalmuken in den Jahren 1802 und 1803» («Кочевнические скитания среди калмыков в 1802-1803 годах»), опубликованный в Риге в 1804-1805 гг. на немецком языке и ставший итогом его 15-месячного пребывания в калмыцкой степи. Данная работа рассматривалась многими исследователями, прежде всего, как исторический и этнографический источник, о чем свидетельствуют многочисленные ссылки на его работу историками и этнографами. Так, этнолог Т.И. Шараева при исследовании этнографии детства использовала указанное сочинение в качестве источника, где содержится описание методов воспитания детей у калмыков [Шараева 2011, 139]. Е.В. Дорджиева, рассматривая вопросы взаимоотношений центральной власти и периферийных элит в XVIII - начале XX в. и интеграции калмыцкой знати в политическое и социально-экономическое пространство Российской империи, привлекала этот труд также в качестве исторического источника [Дорджиева 2010, 16]. Но при этом отсутствуют работы, которые бы рассматривали данное сочинение как литературное произведение, что и обуславливает актуальность изучения писем Б. Бергмана в его труде «Nomadische Streifereien unter den Kalmuken in den Jahren 1802 und 1803» («Кочевнические скитания среди

калмыков в 1802-1803 годах») в литературоведческом аспекте, с одной стороны. С другой стороны, сочинение Б. Бергмана еще раз поднимает теоретические вопросы, связанные с неопределенностью понятия «путевая проза» и маргинальным статусом, поскольку подобные сочинения занимают промежуточную позицию между художественным и документальным дискурсом [Кублицкая 2019, 76-77].
Целью данной статьи является характеристика писем Б. Бергмана с точки зрения жанровой принадлежности (документальное или все-таки художественное произведение), выявление критериев их отнесения к жанрам путевой прозы. Вопрос о жанре писем Б. Бергмана является нерешенным, поскольку основную часть его работы представляют результаты научных изысканий, и на первый взгляд, кажется, что эти письма также следует рассматривать как полевой (или путевой) дневник, являющийся документальным рассказом о путешествии, основанным на периодически пополняемых подневных записях, однако при внимательном прочтении в них обнаруживаются художественные элементы, позволяющие отнести данные письма к жанру путевой прозы.
Сочинение Б. Бергмана «Nomadische Streifereien unter den Kalmiiken in den Jahren 1802 und 1803»: общая характеристика
Работа Б. Бергмана состоит из 4 томов, из которых большую часть содержат его научные изыскания, имеется предисловие, в котором он объясняет причины написания данного труда. Главной причиной, побудившей Б. Бергмана изучить историю и традиции калмыцкого народа, стало то, что многие путешественники, за исключением П.-С. Палласа, к которому он часто обращался в своем труде, поверхностно описывали жизнь калмыков. По его словам, они, посидев «несколько мгновений» («einige Augenblicke») в кибитках калмыков, увидев, как они едят и пьют, рассмотрев несколько изображений их богов, дополнив все остальное свои воображением, с этими поверхностными знаниями пытались дать объективное описание жизни кочевого народа. Эта неправильная интерпретация увиденного вводила в заблуждение людей и формировала неправильное представление о народе [Bergmann 1804, I, 9]. В предисловии Б. Бергман отмечает, что его работа, возможно, не станет развлечением для читателей, но он льстит себя надеждой, что заслуживает некоторого внимания тем, что внесет вклад в знание ранее не известного народа [Bergmann 1804, I, 5]. Далее идут 15 писем («Briefe aus der Kalmiikensteppe» («Письма из калмыцкой степи») [Bergmann 1804, I, 32-138]), затем научные наблюдения, тексты фольклорных и литературных памятников, исторические и этнографические очерки. Это и переосмысление исторических событий, связанных с калмыками: «Versuch zur Geschichte der Kalmukenflucht von der Wolga» («Опыт к истории бегства калмыков с Волги») [Bergmann 1804, I, 140-246], и переводы калмыцкого фольклора и религиозных буддийских сочинений на немецкий язык: 13 сказок сборника «Сидди-кюр» [Bergmann
1804, I, 248-351], двух глав из эпоса «Гесер» - «Bokdo Gassarchan. Eine mongolische Religionsschrift in 2 Biichern» («Богдо Гесер-хан. Монгольское религиозное сочинение в 2 книгах») [Bergmann 1804, III, 232-284], одной из глав калмыцкого эпоса «Джангар» - «Ein Heldengesang aus der Dschangariade» («Героическая песнь из Джангариады») [Bergmann 1805, IV, 182-214), монгольской версии широко распространенной джатаки о Вишвантаре (монг. Ушандар-хан) «Uschandarchan. Eine mongolische Religionsschrift» («Ушандар-хан. Монгольское религиозное сочинение») [Bergmann 1804, III, 286-302], «Kalmukische Anekdoten («Калмыцкие анекдоты») [Bergmann 1804, II, 342-352]; трактата по космологии «Йир-тмжин толи»: «Der Weltspiegel. Eine mongolische Urkunde» («Зеркало мира. Монгольский документ») [Bergmann 1804, III, 186-230], «Goh Tschikitu, eine Religionsurkunde in vier Biichern, aus dem Mongolischen» («Го Никиту. Религиозное сочинение в четырех книгах, с монгольского») [Bergmann 1805, IV, 14-180], а также этнографические исследования: описание традиций и обычаев - «Die Kalmiiken zwischen der Wolga und dem Don. Ein Sittengemalde» («Калмыки между Волгой и Доном. Описание обычаев») [Bergmann 1804, II, 1-322), религиозных обрядов - «Die Religionsdienst der Kalmiiken» («Религиозная служба калмыков») [Bergmann 1804, III, 72-184). Книга также содержит информацию о калмыцкой медицине и астрологии: «Von den Wissenschaften der Kalmiicken» («Из науки калмыков») [Bergmann 1804, II, 324-340]. Завершается книга оставшимися 22 письмами, те. в 4 томе - «Briefe aus der Kalmiikensteppe. (BeschluB)» («Письма из калмыцкой степи. (Заключение)») [Bergmann 1805, IV, 216-355]. Получается, что письма в книге расположены по кольцевому принципу, если не рассматривать предисловие в качестве структурной части книги: с них начинается и ими заканчивается труд Б. Бергмана. В рамках данной статьи анализируются только письма.
В предисловии он отмечает, что обратился к эпистолярной форме изложения по причине того, что жанр письма дает некую свободу в изложении мыслей, не приводя его в определенную систему, что должно, по его мнению, привлечь внимание читателя [Bergman 1804, I, 22-23]. На наш взгляд, на Б. Бергмана не могла не оказать уже к этому времени сложившаяся в Европе эпистолярная традиция, которая была заложена авторами западноевропейских эпистолярных романов XVIII в., начиная с И.В. Гете и Ж.Ж. Руссо. В период путешествия Б. Бергмана этот жанр четко сформировался.
Путевая проза как жанр литературы
Путевая проза как жанр литературы существовала на протяжении многих веков, и в разные периоды своего развития она имела свои собственные стили и формы. Однако во все периоды своего развития несомненна связь эволюции путевой прозы с историческим развитием общества, при этом следует оговорить, что путешествия как способ познания мира обу-

словлен историей, а некоторые ученые, например, канадский ученый Норман Дуарон, утверждают, что история и путешествия взаимосвязаны, так как «оба являются истоками человеческого опыта» [цит. по: Майга 2014, 257], который появляется в результате познавательной деятельности.
Существует большое количество микрожанров, включенных в понятие «путевая проза»: путешествие, путевой дневник, путевые записки, путевой очерк, травелог, письма путешественника и т.д. Это многообразие жанровых номинаций, объединяющих путевую прозу, не позволяет обозначить четко в литературоведении дефиницию путевой прозы как литературного жанра.
Во многих литературоведческих источниках путевая проза определена как «путешествие». И. Борн в § 54 своего «Краткого руководства к российской словесности», говоря о путешествиях как повествовании о «случившемся приключении» с описанием увиденного, отмечает в примечании, что есть «особенный род путешествий, целию имеющих наблюдение нравственности и степени народного и частного просвещения», который известен “под именем сентиментальных путешествий”» [Борн 1808, 116].
Н.Г. Чернышевский считал, что этот жанр соединяет в себе «элементы истории, статистики, государственных наук» и по форме приближается к «легкой литературе»: «Путешествие - это отчасти роман, отчасти сборник анекдотов, отчасти история, отчасти политика, отчасти естествознание» [Чернышевский 1948, 978].
В «Кратком словаре литературоведческих терминов» путешествие толкуется как «произведение, в котором повествуется о бывшем в действительности или вымышленном путешествии в чужой, неизвестный или малознакомый край», содержащий «наблюдения, впечатления путешественника, его открытия и приключения» [Краткий словарь... 1963, 124]. В литературном энциклопедическом словаре под путешествием понимается «литературный жанр, в основе которого описание путешественником (очевидцем) достоверных сведений о каких-либо, в первую очередь незнакомых читателю или малоизвестных, странах, землях, народах, в форме заметок, записок, дневников (журналов), очерков, мемуаров» [ЛЭС 1987, 314].
В.А. Михайлов подчеркивает особую роль автора-путешественника и считает его структурообразующим звеном в жанре путевой прозы: «путешествие - жанр художественной литературы, в основе которого лежит описание реального или мнимого перемещения в достоверном (реальном) или вымышленном пространстве путешествующего героя (чаще героя-повествователя), очевидца, описывающего малоизвестные или неизвестные отечественные, иностранные реалии и явления, собственные мысли, чувства и впечатления, возникшие в процессе путешествия, а также повествование о событиях, происходивших в момент путешествия» [Михайлов 1999, 45].
Изучение теоретических основ жанра получило освещение в целом ряде исследований российских ученых [Михайлов 1999; Шадрина 2003;
Шачкова 2008; Майга 2014 и др.]. При всей сложности дефиниции данного термина ученые рассматривали различные ее аспекты: жанровые [Маслова 1973; Ивашина 1979; Гуминский 1979; Михайлов 1999], дискурсивные [Греймас 2004; Фуко 2008; Кубрякова 2012; Жиличева 2015,], стилевые [Рощектаева 2007], нарративные [Мамуркина 2012; Пономарев 2014].
Швейцарский лингвист Андреас Шенле, исследуя эволюцию путевой прозы 1790-1840 гг. в России, обращает внимание на спад интереса путешественников к Западной Европе и появлению новых направлений -азиатских окраин Российской империи, предпринятых ими «отчасти в поисках дикой природы, отчасти для познания исторического прошлого» [Шенле 2004, 18]. Появляется термин «ориентальный травелог», периодом формирования которого стала вторая половина XVIII в. В этот исторический период были предприняты академические экспедиции немецких ученых, находившихся на русской службе в Академии наук (П.-С. Паллас, С.Г. Гмелин, И.А. Гильденштедт и др.). Результаты их путешествий имели чисто исследовательский характер и опирались на научные ориенталист-скиезнания.
В путевой прозе конца XVIII и начала XIX вв. стал применяться эпистолярный стиль, он был настолько популярен, что не только путешественники, но и даже русские писатели того времени использовали форму писем в своих произведениях («Записки первого путешествия» Д.И. Фонвизина (1778), «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина (1789), «Письма русского офицера» Ф.Н. Глинки (1815) и т.д.). Жанр писем в путевой прозе имел характерные для эпистолярного стиля специфические черты: наличие автора-путешественника и его адресата, достаточно свободная форма изложения и присущие для письма устойчивые композиционные элементы: приветствие в начале письма, дата и место написания, пейзажные описания, лирические отступления и т.д.
Очевидно, что изучение путевой прозы, ее жанровой природы еще не исчерпано, существует множество проблемных вопросов, требующих своего решения. Однако на материале путевой прозы весьма показательно раскрывается проблема «свой» - «чужой» / «другой», которая в последнее время приобретает особую актуальность в кросс-культурном диалоге европейской и восточной культур, в том числе и в художественной литературе. Мы намеренно приводим понятие «чужой» и «другой» через слэш, поскольку еще не знаем и не проводили специального исследования о доминировании того или иного, что является противопоставлением к «своему».
Адресат писем Б. Бергмана
Путевую прозу от других литературных жанров отличает прежде всего фиксация передвижения героя в пространстве и времени, которая проявляется в определенных элементах текста и является доминирующим мотивом, более того, путешествие играет организующую роль, являясь и темой, и сюжетом, и композицией. Так, в письмах Б. Бергмана мотив дви-
жения также является главным в организации текстов.
Все письма Б. Бергмана датированы, за исключением трех, но приблизительную дату написания можно определить, так как все они находятся в хронологической последовательности. 17 писем имеют обозначение места написания или отправления: ставка князя Чучея на донской реке Аксай [Bergmann 1804,1, 34], на реке Аксай в 130 верстах от Сарепты [Bergmann 1804,1, 76], на реке Хара Усун в 150 верстах от Кумы [Bergmann 1805, IV, 334] и т.д. Отсутствие обозначения места объясняется тем, что большая часть писем была написана им непосредственно в полевых условиях. Первые 15 писем написаны с интервалом в 2-5 дней, остальные - с интервалом в один месяц и более. Но в каждом из этих писем он указывает причину своего длительного молчания. Это могли быть очень сильные морозы, которые не позволяли выехать в степь:
С начала января и до середины февраля здесь царил такой сильный холод, что люди, прожившие в этих краях до седин, не могут вспомнить подобной зимы [Bergmann 1805, ГУ, 321]. (Здесь и далее перевод с немецкого на русский язык осуществлен автором статьи. В силу ограничения объема статьи приводится только перевод на русский язык, однако в случае необходимости, например, отражения языковой особенности немецкого языка, приводится немецкий текст наряду с русским переводом - Б.А.)
Загруженность работой, описание всего увиденного, процесс перевода монгольских книг также не позволяли ему писать письма другу:
В течение пяти недель Вы не знали обо мне ничего, потому что я все время был занят в Сарепте, все, что я написал о калмыках, я давал переписывать другим, частью переписывал сам [Bergmann 1805, IV, 217].
Б. Бергман сам определяет жанр своих текстов, как «Письма», о чем было написано в предисловии, при этом он выбирает именно этот жанр для описания своего путешествия. Для того чтобы возникла переписка, необходима некоторая удаленность адресата и адресанта, которая не позволяет им обращаться напрямую, и эти пространственные локусы должны находиться в постоянной бинарной оппозиции, к примеру, столица - провинция, Европа - Россия («Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина).
Здесь же, в предисловии, он указывает, что пишет своему лучшему другу детства Федору Дюбуа:
Между прочим, я адресовал эти письма одному из моих самых дорогих друзей, память о котором тем более запечатлелась в моей душе неизгладимыми чертами, поскольку он один из тех редких людей, среди сотни прекрасных черт характера которых я не заметил ни одного изъяна. Фёдор Давидович Дюбуа! [Bergmann 1804,1,23]
Следовательно, он обращается к тому человеку, с кем вырос и который проживал в том же самом месте, что и Б. Бергман, т.е. в Риге. С одной стороны, пространственным локусом, куда «направляются» письма, является европейский город, с другой стороны, откуда пишутся письма, это калмыцкая степь, восточный мир, в то время далекий от европейских традиций, быта, жизни. Данная пространственная оппозиция символизирует выделение локусов «свое» (привычный ритм жизни с комфортом и с устоявшимися традициями) и «другое» (мир другой, полный неизведанного и изобилующий различными экзотическими описаниями, непонятными порой даже человеку, много повидавшему). Кросс-культурная парадигма присутствует во всех письмах и позволяет автору раскрыть особенности менталитета и традиций калмыков:
Контраст монгольского образа жизни с нашим, то самобытное, что я узнал в характере и образе мышления калмыков: все это внушило мне желание ближе познакомиться с этим интересным народом [Bergmann 1804,1, 20].
Б. Бергман обращается к другу на «Вы»:
Mit dem Tee muB ich Sie indessen genauer bekannt machen. ‘С чаем, однако, я должен познакомить Вас подробнее’ [Bergmann 1804, IV, 236];
Alles, was ich Ihnen hier geschrieben habe, ist nichts gegen das, was gestern Nachmittag sich ereignete ‘Все, что я написал Вам здесь, ничто против того, что произошло вчера после обеда’ [Bergmann 1805, IV, 248] (выделение наше - Б.А.).
Обращение на немецком языке к другу детства на Вы также вызывает вопросы. Как правило, Sie ‘Вы’ обозначало среднюю дистанцию между собеседниками [Катаева 2016, 190], с одной стороны, а с другой - маркировало происхождение адресата - так называемых «благорожденных» [см. по Колесов 2006, 284]. Отметим, что в немецком дискурсе местоимения отличались по употреблению: du при обращении к «черному» народу; ег -к среднему классу; Ihr - к чиновникам; Sie - к «благорожденным» [см. по Колесов 2006, 284].
В письмах Б. Бергмана нет стандартных обращений, характерных для эпистолярного жанра, но присутствует все же иллюзия общения, хотя ни в одном из писем автор не обращается к адресату по имени, и, если бы он не указал его в предисловии, трудно было бы понять, кому адресованы эти письма. Однако установка на эпистолярность в данном случае подразумевает все-таки некую художественную условность, ответа на письма автор не ждет, так как их содержание выходит за рамки личных интересов адресата и адресанта и отвечает интересам более широкой аудитории. Но наличие текстового единства (сквозной темы и образа автора), что является характерным признаком эпистолярного жанра, в письмах имеется.
Очевидно, что эти письма так до адресата и не дошли, поскольку в них
реализована креативная интенция автора в качестве мотива к созданию текстов, фиксирующих путешествие Б. Бергмана по калмыцким степям, желание познакомить европейского читателя с восточным (экзотичным по своей природе) миром. Форма местоимения во множественном числе будто подчеркивает, что автор обращается к обобщенному европейскому читателю, который находится за рамками того мира, о котором он пишет, поэтому связь в переписке путешественника и его адресата имеет условно-литературный, вторичный характер. Б. Бергман даже не прибегает к искусственному моделированию присутствия адресата в другом локусе: автор не спрашивает о благополучии своего друга, не вспоминает разделенные с лучшим другом события, те. отсутствует общая апперцепционная база повествователя и адресата, не обращается с просьбами. Здесь в текстах реализован односторонний обмен информацией о «другом» мире, далеком от своего, родного.
Наличие адресата писем не позволяет строго отнести данные сочинения к путевому дневнику, хотя автор использует те или иные тематические элементы путевого дневника, а также пытается фиксировать свое путешествие достаточно часто (в первых письмах практически каждые два-пять дней), описывать события прошедших дней в одном письме. Например, часто Б. Бергман начинал свои письма с описаний погоды или с выезда в степь или отъезда из степи и сопровождал это описанием прохождения пути и обозначением времени:
Дождь лил все сильнее, и мы, застигнутые врасплох столь внезапным его появлением, оказались в голой степи под яростью небесного потока, сопровождаемого раскатами грома [Bergmann 1805, IV, 217].
После того, как совершили переход через Маныч после 10-дневного ожидания, мы подумали продолжить наши непрерывные дневные путешествия дальше [Bergmann 1805, IV, 334].
Композиция писем Б. Бергмана
Любое эпистолярное произведение имеет свою шаблонную структуру: обращение к адресату, часто указание места и даты написания, вступление, тело письма и заключение [Логунова 2009, 131]. Однако письма Б. Бергмана не имеют структуры письма, он часто сразу же развивает ту или иную тему, о которой хочет рассказать, поведать читателю о неизвестном ему мире. Этот факт, так же, как и отсутствие моделирования наличия адресата его писем, маркирует отступление от жанра эпистолярного изложения, что свидетельствует о переходном этапе развития путевой прозы в целом, поскольку в текстах, написанных Б. Бергманом, слились и элементы эпистолярного жанра, и элементы путевого очерка, в котором, как правило, сделан акцент на историко-этнографические, культурологические реалии, социально-бытовые особенности посещаемых мест. Письма Б. Бергмана имеют простую структуру: они организованы линейно, в хронологическом отрезке времени, в котором выделены яркие фрагменты, отдельно отраженные в каждом письме. Как правило, в письмах Б. Бергмана повествование идет о каком-то главном событии, о котором хочет поведать автор писем своему адресату и которое не укладывается в парадигму «своего» мира. Например, вот как описывает он свою несостоявшуюся утреннюю трапезу:
Я проснулся рано и хотел было чем-нибудь полакомиться. Мне сказали, что есть сливки и молоко. Я выбрал сливки. Хозяйка тут же схватила жирную миску, которую очистила пальцами, обмазала руку, затем языком очистила руку от белой жидкости. Этим зрелищем я был сыт. Я сделал вид, что кислые сливки мне противны, и оставил миску своим спутникам, которые были немало удивлены, что я смог отвергнуть такое вкусное блюдо [Bergmann 1804,1, 23].
...После трапезы нам принесли воду из пруда или резервуара с дождевой водой. Калмык уверил нас, что хорошо, что он не поленился и принес воду... Напиток, который он нам подал, состоял из смеси черного и желтого и был наполнен всевозможными насекомыми. Поскольку я пробудил свою жажду более, чем утолил ее, опустошив три или четыре миски, я высказал своим спутникам мое страстное желание по свежему напитку, но получил от них не очень утешительный ответ, что можно меня считать счастливчиком, если буду всегда получать такую воду в будущем [Bergmann 1804,1, 23].
Письма Б. Бергмана носят преимущественно описательный характер, что характерно для многочисленных образцов литературного путешествия начала XIX в. Б. Бергман как путешественник того времени не ищет особенных тем, его внимания достойны все аспекты кочевой жизни.
Помимо повествовательных эпизодов, в письмах присутствуют и другие типы текстов. Временами автор отходит от непосредственного повествования и переходит к рассуждениям о том или ином предмете, при этом дает научные обоснования ему. Порою ход мыслей его и взгляд на данное событие или предмет настолько необычны с точки зрения современных знаний, что вызывает некоторое удивление. Например, при описании калмыцких кибиток он приходит к оригинальному выводу:
Устав по манере диких животных лежать на свежем воздухе, возможно, одному из них пришло на ум сделать из шерсти своей овцы вид хижины, для которой гнездо так хорошо известной в татарской степи птицы ремез могло служить образцом. Эта удивительная птица делает удлиненный мешок из шерсти, который так умело прикрепляет к веткам, что ни ветер, ни погода не могут повредить его висящему в воздухе жилищу. Мне кажется, что этот метод использовали предки калмыков для создания кибиток по примеру ремеза, которые они впоследствии пытались усовершенствовать и еще лучше укрепить деревянными сооружениями. Поскольку монгольские жилища могли строиться не иначе, как на земле, монголы вынуждены были отклониться от прообраза в том, что они предоставили своим жилищам противоположное расположение. Вход в жилище, следовательно, также
был расположен внизу. Сходство между гнездом и кибиткой настолько очевидно с точки зрения материала и формы, что небольшую разницу в расположении не следует принимать во внимание [Bergmann 1804,1, 23].
Письма Б. Бергмана изобилуют пейзажными зарисовками степи. Понимая, что, для калмыка, степь - это родное, он с пониманием относился ко всем тяготам степной жизни. Степь поражала путешественника своей бескрайностью, описывает он ее с такой большой любовью, хотя и были моменты во время его путешествия, когда его мучала жажда в безводной степи и невыносимая жара, его обуревало и чувство страха, когда он заблудился в степи:
Калмыцкую степь можно очень хорошо сравнить с открытым морем, где зоркий глаз калмыка служит вместо компаса. Представьте себе обширную территорию в 400 верст, где только несколько прочных жилищ можно найти на пограничных реках: этот огромный край полностью лишен растительности. Немногие отличительные приметы, которые появляются на нем, это овраги, холмы и водные плато. Однообразие этих черт делает их очень ненадежными проводниками для любого, кто не является калмыком [Bergmann 1804,1, 36].
Было уже довольно поздно, в то время как я вчера ушел от борцов, чтобы еще насладиться чудесным вечером, который в степи превосходит все описания. Летние вечера нигде не могут быть такими красивыми, как здесь, отчасти из-за приятной прохлады, а отчасти из-за отсутствия вредных насекомых. Холод ощущается здесь только после полуночи, поэтому даже после самых жарких летних дней необходимо носить шубы [Bergmann 1804,1, 55].
Мы пробыли два дня пути с Маныча и переночевали в безводной степи. Трава здесь еще зеленеет. Стоит самая прекрасная осенняя погода. Зима, похоже, долго еще не придет сюда [Bergmann 1805, IV, 312].
Эмоциональность и субъективность писем Б. Бергмана
В отличие от документальных путевых очерков в письмах Б. Бергмана отсутствуют точные данные, связанные с какими-то цифрами, статистикой, в них преобладает очень ярко выраженное «я» автора, которое репрезентируется через языковые средства. Через оценку автором писем даются определения и характеристика увиденному в калмыцкой степи, жизни европейских кочевников азиатского происхождения. Пограничность автора, с одной стороны, объективного наблюдателя, а с другой - интерпретатора происходящего, оценка которого носит субъективный характер, четко прослеживается в анализируемых письмах.
Субъективность позиции автора писем проявляется, прежде всего, во фрагментах, где имеются рассуждения, объяснения непривычного для европейского глаза традиций, обычаев. Так, например, он воспринимает религиозную службу у калмыков как какофонию непонятных ему звуков:
Оглушительно ревущий звук музыкальных инструментов, доносившийся из соседних кибиток священников, крик верблюдов, ржание лошадей, рев детей, громкий крик жаб в ближайшем пруду приветствовали мои уши таким многоголосым концертом, что я не заснул до полуночи [Bergmann 1804,1, 56].
Б. Бергман постоянно оценивает и сравнивает со своими традиционными представлениями события, обряды, еду, напитки и т.д. Везде описание сопровождается выстраиванием концепции «свое» - «чужое» / «другое». Так, например, он оценивает калмыцкую молочную водку:
Для европейца, не привыкшего к нашей обычной водке, этот напиток крайне противен; но кочевая вежливость требует хотя бы дегустации представленной еды. Но чем больше вам это нравится, тем вы более заслужите благосклонное расположение калмыков [Bergmann 1804,1, 59].
При описании эмоций автор использует различные языковые средства: как лексические, так и синтаксические. Для писем путешественника характерно выражение эмоций, диапазон которых очень широк: от восторга до полного неприятия. Очень часто используются предикаты эмоционального отношения (любоваться, нравиться, очаровать, наслаждаться):
Но чем больше вам это нравится, тем вы более заслужите благосклонное расположение калмыков [Bergmann 1804,1, 59].
<...> вчера ушел <...>, чтобы еще насладиться чудесным вечером [Bergmann 1804,1, 55].
Довольно часто автор использует существительные и другие части речи, выражающие настроение, чувства, эмоции:
Один твой вид доставил мне радость [Bergman 1804,1, 115].
Очаровательным было для меня то, что я даже не могу выразить, даже если бы я мог это сделать [Bergman 1804, IV, 303].
Я, полный радости, поспешил вниз к ущелью, сел на отдохнувшую лошадь и поскакал своей дорогой [Bergman 1804,1, 115].
Нередки субъективно-авторские восклицания, которые выражают факт эмоционального восприятия автором каких-либо признаков:
Полюбуйтесь острым зрением калмыков [Bergman 1804,1, 42].
Заключение
Письма Б. Бергмана представляют большой интерес не только для этнографов и историков, но и для литературоведов. В данном случае письма можно рассматривать как синтетическую форму, которая обладает устой-
чивыми признаками и эпистолярного жанра (наличие адресата), и путевого дневника (дата, место, описание событий в хронологическом порядке), и путевого очерка (доминирование авторского «я» в описании исторической, этнографической и др. информации). Контраст «своего» и «чужого» / «другого» является композиционным приемом в организации текстов писем. Не случайно, что обобщенный образ адресата писем является просвещенным благородным по происхождению европейцем, что еще раз подчеркивает тему кросс-культурного диалога европейской и восточной культур на страницах литературного произведения. Напомним, что письма Б. Бергман написал в 1803 г, во время своего путешествия в Калмыцкую степь. Это время, когда в европейской литературе практически устоялся жанр писем-путешествий, гораздо позже стали появляться путевые очерки и путевые дневники как художественные произведения. В письмах Б. Бергмана синтез разных жанров путевой прозы: писем-путешествий, путевого дневника и путевого очерка, что делает эти письма уникальными для своего времени.
Список литературы Проблема определения жанра писем Бенджамина Бергмана
- Бичеев Б.А. О записи песен «Джангара» (Отчет Н.О. Очирова) // Монголоведение. 2018. № 15. С. 143-162.
- Борн И.М. Краткое руководство к российской словесности. СПб.: Тип. Ф. Дрехслера, 1808. 162 с.
- Греймас А.-Ж. Структурная семантика. Поиск метода. М.: Академический проект, 2004. 368 с.
- Гуминский В.М. Проблема генезиса и развития жанра путешествий в русской литературе: дис. ... к. филол. н.: 10.01.01. М., 1979. 184 с.
- Дорджиева Е.В. Традиционная калмыцкая элита в пространстве Российской империи в XVIII - начале ХХ вв.: автореф. дис. ... д. ист. н.: 07.00.02. М., 2010. 50 с.
- Жиличева Г.А. Дискурс путешествия в «Одноэтажной Америке» И. Ильфа и Е. Петрова // Русский травелог XVIII-XX вв. Новосибирск: Новосибирск. гос. пед. ун-т, 2015. С. 56-579.
- Ивашина Е.С. О специфике жанра «путешествия» в русской литературе первой трети XIX века // Вестник МГУ Серия IX. Филология. 1979. № 3. С. 3-16.
- Катаева С.В. Употребление средств выражения грамматической категории респективности в немецком языке // Печать и слово Санкт-Петербурга. Петербургские чтения - 2015: материалы XVII Всероссийской научной конференции (Санкт-Петербург, 17-19 апр. 2016 г.). СПб.: Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна, 2016. С. 187-191.
- Колесов В.В. Гордый наш язык. СПб.: Авалон, 2006. 352 с.
- Краткий словарь литературоведческих терминов / сост. Л. Тимофеев, Н. Венгеров. М.: Учпедгиз, 1963. 511 с.
- Кублицкая О.В. Путевая проза: жанр, стиль, дискурс, нарратив (итоги и перспективы изучения) // Вестник Марийского государственного университета. 2019. Т. 13. № 1. С. 76-84.
- Кубрякова Е.С. В поисках сущности языка: когнитивные исследования. М.: Знак, 2012. 203 с.
- Кульганек И.В. Малые жанры монгольского поэтического фольклора: ав-тореф. дис. ... д. филол. н.: 10.01.03. СПб., 2008. 33 с.
- Литературный энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1987. 750 с.
- Логунова Н.В. Художественный эпистолярный дискурс и иные разновидности литературного нарратива: к проблеме сопоставления // Известия ВУЗов. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2009. № 5. С. 128-133.
- Майга А.А. Литературный травелог: специфика жанра // Филология и культура. 2014. № 3(37). С. 254-259.
- Мамуркина О.В. Художественный нарратив в путевой прозе второй половины XVIII века: генезис и формы: автореф. дис. ... к. филол. н.: 10.01.01. СПб., 2012. 22 с.
- Маслова Н.М. «Путешествие» как жанр публицистики: автореф. дис. ... к. филол. н.: 10.01.10. М., 1973. 21 с.
- Митруев Б.Л. Б. Бергман и его труд о калмыках и калмыцкой культуре // Бюллетень Калмыцкого научного центра РАН. 2020. № 4. С. 149-175.
- (a) Митруев Б.Л. Относительно названия двух песен Гесера в переводе Б. Бергмана // Новый филологический вестник. 2021. № 2(557). С. 430-435.
- (b) Митруев Б.Л. О переводе двух песен эпоса «Гесер» Б. Бергманом // Oriental Studies. 2021. Т. 14. № 3. С. 606-625.
- Михайлов В.А. Эволюция жанра путешествия в произведениях русских писателей XVIII-XIX вв.: дис. ... к. филол. н.: 10.01.01. Волгоград, 1999. 224 с.
- Пономарев Е.В. Типология советского путешествия: «Путешествие на Запад» в русской литературе 1920-1930-х годов: автореф. дис. ... д. филол. н.: 10.01.01. СПб., 2014. 51 с.
- Рощектаева Т.Г. Жанрово-стилистические особенности современного путевого очерка: на материале русской публицистики 90-х годов ХХ века: дис. ... к. филол. н.: 10.01.10. М., 2007. 175 с.
- Фуко М. Дискурс и истина // Логос. 2008. № 2 (65). С. 159-262.
- Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений: в 15 т. Т. IV. М.: Художественная литература, 1948. 998 с.
- Шадрина М.Г. Эволюция языка «путешествий»: автореф. дис. ... д. филол. н.: 10.02.01. М., 2003. 66 с.
- Шараева Т.И. Этнография детства у калмыков: традиционные способы ухода за ребенком на первом году жизни // Монголоведение. 2011. № 5. С. 139-145.
- Шачкова В. А. «Путешествие» как жанр художественной литературы: вопросы теории // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Сер. Филология. Искусствоведение. 2008. № 3. С. 277-281.
- Шенле А. Подлинность и вымысел в авторском самосознании русской литературы путешествий. 1790-1840. СПб.: Академический проект, 2004. 271 с.